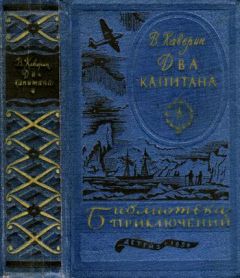— Сковородникова? Сейчас сообразим…
Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной, к Сфинксам.
— Катя, мы сегодня уходим, — сказал он. — Я очень рад.
Он замолчал. Он был взволнован.
— Никто не думал. Мы должны были на днях отправиться в учебный поход. Но, очевидно, положение изменилось.
Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из-под Луги — нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось.
— Я написал письма, — продолжал он и стал рыться в сумке. — И хотел просить вас… Вот это не нужно посылать.
Он достал конверт, незаклеенный, ненадписанный, и протянул его мне:
— Это — Петьке. Вы ему отдадите, если меня…
Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по-детски.
— Понятно, не сейчас отдадите, а так — лет через десять.
— Саня никогда не стал бы писать таких писем.
— У него нет сына.
Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался — подумал, что обидел меня… Мы остановились, и он крепко взял меня за руку:
— Что же Саня? Где он?
— Не знаю.
— Я писал ему на ППС, но не получил ответа. Все равно — он жив, и с ним ничего не случится.
— Почему?
Он помолчал.
— Я верю, что не случится. Помните, он говорил: «Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».
И правда, Саня так говорил. Но это было давно, а теперь, во время войны, как-то пусто прозвучали эти слова.
— А это отцу. — Петя достал из сумки второе письмо. — Если он жив. Видите, всё такие письма, что никак не пошлешь почтой, — добавил он горько. — Работы мои возьмут в Русский музей. Я уже сговорился.
Я даже руками всплеснула.
— Да нет, это просто так, — поспешно сказал Петя, — не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал то же, и Лифшиц, и Назаров.
Это были художники.
— Мало ли что может случиться… Да не со мной же, господи, — добавил он уже нетерпеливо. — Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?
Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души и не надеялся на возвращение.
— Нам еще кажется, что мы — одно, а война — другое, — задумчиво сказал он. — А на самом деле…
В конце концов он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно.
— Чудачка, мне же выдали новые, с компасом, — сказал он. — Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант, — пожалуйста, не шутите!
Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, — он всего-то был в армии месяц. Но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса.
Мы дошли до Сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему-то был снят парапет и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на Сфинксов — прощался? Длинный, подняв голову, стоял он, и что-то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми, рассеянными глазами. «Плевал он на эту смерть», — как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у Сфинксов, я почувствовала эту гордость, это презрение.
Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына. Но, наверно, нужно было еще раз сказать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова — уж кому-кому, а мне-то пора было этому научиться! Но я почему-то не сказала ему и, вернувшись домой, сразу же пожалела об этом.
Он снова взял меня за руки, поцеловал руки; мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал:
— Сестра…
Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи.
Жарко было — свежий асфальт у Ростральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом. И Нева, великолепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные просторные Невы именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой-нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этом праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому, молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами.
Но пока еще тихо, спокойно было вокруг, в сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.
Глава шестая
ТЕПЕРЬ МЫ РАВНЫ
Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так теперь я запомнила, и, кажется, навсегда, те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не считать записочки, в которой он называл меня «Пира-Полейкин», я получила 7 августа — день, который потом долго снился мне и как-то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться.
Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе: трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску.
— Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко, — говорила она. — Где доска? Воробьев, не чешись. Попробуйте на доске. Не все сразу.
По инерции она и со мной заговорила деловым тоном:
— Противопожарное мероприятие: окраска чердаков и других деревянных верхних частей строений. Огнеупорный состав. Учу детей красить.
— Розалия Наумовна, — спросила я робко, — вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить.
Я ждала звонка из Русского музея. Петины работы давно были упакованы, но за ними почему-то не присылали.
— Через час. Пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна. Катя, да что же это я! — сказала она живо и всплеснула руками. — Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!
Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани…
Как всегда, я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось, потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово.
«Помнишь ли ты Гришу Трофимова? — писал он уже в конце, прощаясь. — Когда-то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили».
Я плохо помнила Гришу Трофимова — он сразу же куда-то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя мигом представилась мне — и письмо выпало из рук, листочки разлетелись.