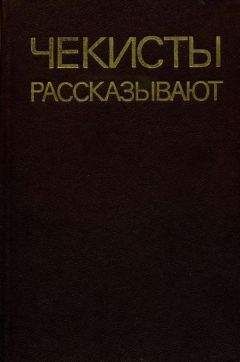— Жена не пускала. Кричит: какой байрам? Тыква переспела, убирать надо!
— Э-э, какой ты горец, если жену так распустил!
— Из Кабарды? Ого! Тебя чего сюда занесло?
— То же, что и тебя.
— Слушай, кто мне скажет, что кричать надо?
— Ты можешь помолчать? Клянусь аллахом, надоел! Вот видишь, крутится рядом чеченский мулла, он все знает. Что будет кричать — то и ты кричи, что станцует — и ты повторяй! Ясно?
— Так бы сразу и сказали. А то заплатили, а что делать...
Митцинский и генштабисты стояли на вершине холма, одетые в праздничные черкески. Чуть поодаль медведем переминался Ахмедхан — сторожил Гваридзе. Тому отчаянно хотелось спать. Он проспал в яме всю ночь. Но сказывались потрясение и бессонница последних дней: скулы Гваридзе то и дело скручивала жестокая зевота. Все происходящее воспринималось сквозь легкую пелену — необъятное людское колышущееся море внизу, легкий туман испаряющейся росы, которую лениво высасывало с травы неяркое осеннее солнце.
Гваридзе пробудили рано утром, подняли из ямы и привели сюда. Объяснили — байрам, поклонение могиле святого. Что-то здесь не вязалось. Если поклонение могиле — где сама могила? Впрочем, не пришло еще время требовать у Митцинского объяснений. Ах, поспать бы...
Возбужденной гусиной стаей переговаривались военспецы. Толпа, опоясавшая холм, приглушенно рокотала. Это был рокот океана перед бурей.
Митцинский, заложив руки за спину, подавшись вперед, жадно обводил глазами колыхавшийся людской прибой. Это был его час! Сюда пришли тысячи! Вот оно, дело всей жизни!
Федякин, расставив ноги, скрестив руки на груди, угрюмо осматривал бескрайнюю зыбь из людских голов. Он запер в доме спящую Фатиму. Проснется — испугается, не привыкла ведь взаперти. Черт его дернул повернуть ключ в замке. Может, догадается открыть окно и вылезти?
Митцинский повернулся, шагнул к Ахмедхану. Просилось наружу неуемное ликование: многолюдье — во многом дело рук мюрида. Наклонился к его плечу, поманил пальцем. Ахмедхан пригнулся. Горячим, обжигающим шепотом влил ему в ухо Митцинский обещание:
— Я этого не забуду. Свершится — пошлю с Фаризой за границу, научишься тратить золото, отдохнешь, приучишь дикарку.
И, отстранившись, впитывал, как поползло, растекаясь в преданности, лицо раба. Насладившись, усмехнулся Митцинский бескровными от возбуждения губами. Но к кому было больше прислониться слуге в этой жизни. И оба знали это.
Митцинский вышел вперед и, отчетливо видимый многотысячной толпой, медленно поднял над головой белый платок. Слитно, приглушенно зарокотал людской океан. Суетливо забегали, отдавая распоряжения маленькие фигурки мулл.
Людская масса медленно, неприметно стала расслаиваться. Вскоре десять или пятнадцать колец опоясали холм. Они колыхались поначалу, смазанные рябью движения, потом в этом хаосе стал намечаться какой-то порядок. И вдруг все эти необъятные кольца задвигались в унисон, колыхаясь в едином ритме. Перед зрителями набирал свою грозную силу древний религиозный обряд зикр. Ритм задавал единый пронзительный хор мулл.
— Ульиллах! Ульиллах! — ввинчивался в уши мерный исступленный крик. И, подчиняясь ему, все слаженней, мощнее колыхался людской прибой. Глухо гудела земля, попираемая тысячами ног, из единой многотысячной груди вырывалось, сотрясало воздух дыхание. Прозрачная поначалу кисея пыли заметно густела, заволакивала небо плотным облаком.
Генштабисты, потрясенные, завороженные невиданным зрелищем, грудились позади Митцинского. Единая гипнотическая воля организованной толпы завораживала, отключала сознание, лишала сопротивления. Что-то дикое, первобытное, исторгнутое подсознанием овладевало всеми.
Это продолжалось неимоверно долго. Время растворилось, исчезло, его больше не существовало. Гудел и содрогался холм в ритмичном землетрясении. Исступление правило людской массой.
Внезапно дрожь пробежала по шеренгам, сломала, разорвала их. Муллы, без труда управляясь со своим многотысячным стадом, бросили его к вершине холма, где стоял Митцинский.
Генштабисты увидели, как темный людской вал с грозным гулом затопляет свободное пространство.
И когда до Митцинского остались считанные метры, в недрах толпы зародился, окреп, обрастая сотнями, затем тысячами голосов, громовой клич:
— Хуьлда хьох имам![11]
Толпа исторгала рев немыслимой силы. Единый циклопический глаз ее прожигал насквозь. Французу стало плохо. Он закрыл глаза и отдался накатывающейся дурноте.
Митцинский поднял руку. Странное ощущение владело им: будто исчезли ноги и холм отдалился. Горячее дыхание толпы клубилось под ним, орущие лица на уровне его подошв расплавили, казалось, землю, и теперь он держался, парил в воздухе на осязаемо-плотной воле народа.
Гул постепенно стихал, усмиренный поднятой рукой Митцинского. И холм объяла ужасающая после рева тишина. Лишь ровно шумел в ушах то ли ток крови, то ли дыхание толпы.
— Что... им надо? — пробился к слуху Митцинского комариный писк человечьего голоса. Спрашивал Вильсон.
— Народы Кавказа требуют решения. Они хотят видеть меня своим имамом, — сказал Митцинский. — Свершилось!
Он повел плечами, стряхивая остатки оцепенения. Затем повернулся к толпе.
— Братья! — протяжно бросил он первое слово, и оно покатилось над головами. — Я склоняюсь перед вашей волей. Вы повелели принять мне на свои плечи тяжесть духовной власти, обрекли нести ее до конца жизни.
Приглушенно рокотали в толпе голоса, переводившие сказанное Митцинским.
— Я еще молод. Но, принимая бремя ответственности, отныне отрекаюсь от жизненных утех, ибо ничто не должно мешать выполнению воли народа.
«Авантюрист! — восторженно подумал турок. — Но пусть меня накормят свининой, если это не гениальная авантюра!»
— Вы избрали меня имамом. Я обязан отречься от имамства в следующих случаях: когда лишусь ума, когда ослепну, когда отвращу лицо свое от мусульманской веры. Видит аллах, меня обошли пока эти несчастья. Поэтому заявляю: я имам волею аллаха и народа. Омен!
Взвилось в воздух оружие, громыхнули залпы, и трижды потряс окрестности клич толпы: «Омен! Омен! Омен!»
Митцинский повернулся к штабистам, спросил властно, нетерпеливо:
— У представителей Антанты достаточно полномочий, чтобы признать меня избранником народа? Или кому-нибудь из вас нужно время для консультаций со своими правительствами?
Он рассчитал точно. Генштабистов спрашивал уже не шейх, а духовный властитель Кавказа. И каждый отчетливо понял: время, которое потратит кто-либо на консультации, перечеркнет его карьеру, ибо остальные не упустят возможностей в драке за концессии и льготы, которые теперь в руках новоиспеченного имама. Его власть среди фанатиков веры, несомненно, весомее, чем Советская власть. Кроме того, эта власть опиралась на реальную повстанческую силу, а значит, была вообще единоличной.