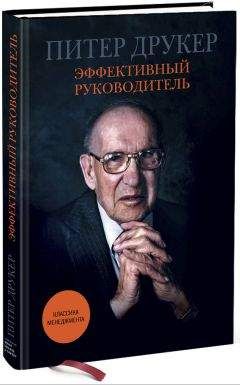Залит быстро оглянулся. Черная тень метнулась в лесной гуще. Вспыхнули и погасли огоньки чьих то неведомых глаз. Страх заставил Залита задрожать.
— Федор! — крикнул он в каком-то исступлении. — Федор! скорее!.. Ко мне… На помощь!..
— Э-геп!.. Я… — совсем близко отозвался Федя.
В то же мгновение черная тень стремительно прянула из чащи, опрокинула в своем прыжке оба котелка, залила похлебкой догоравшие угли и исчезла в вдруг наступившей мгле.
Залит как сумасшедший кинулся туда, где погромыхивали бубенцы лошадей. Из тьмы ночи донесся его дикий крик, неистовый звон бубенцов, треск саней… потом все стихло…
В тот день, когда уехал Федя, уже вечером, после ужина, в женском тереме как всегда засветили две восковые свечи. Наташа стала раскладывать из шкатулки пестрые индийские шелка, чтобы по черному плату киевским метким швом вышивать сказочные, чудесные цветы.
Три сенные девушки помогали ей. На столе, на блюде, лежали сласти: медовый постный сахар, каленые орехи, изюм, пряники и жамки.
Было слышно, как поскрипывал под иглою туго натянутый шелк, да иногда какая-нибудь девушка тяжело вздохнет и тихо скажет: о, Господи!..
— Скучно мне, девушки, — сказала Наташа, — вот как мне грустно теперь…
— Еще бы не быть скучно, — ответила черноглазая бойкая Дуня, любимица Наташи. — Уехал суженый в чужедальнюю сторонушку… Что там его ожидает.
— И в Москве не сладко, — сказала другая, девушка постарше, с худым, темным лицом. — Сегодня ходила в церковь… Опять бояр пытать везли. На шести санях. С дитями.
— О, Господи!..
— Спойте мне, девушки, какой-нибудь хороший стих, — сказала Наташа.
— Что же спеть-то тебе, свет Наталья Степановна? — сказала Дуня.
Она оторвалась от работы, вынула изо рта прикушенный зубами шелк и задумалась. Темные глаза ее устремились в далекое пространство, точно искали в углу тесной горницы образы и слова хорошо знакомой песни.
Полный, грудной голос ее вдруг наполнил всю горницу и задрожала слюда в маленьком волоковом оконце.
Во святой земле, православной
Нарожается желанное детище
У тоя ли премудрый Софии…
Пела Дуня, и карие глаза ее блистали золотистыми огоньками. Марфа, та девушка, что ходила утром в Москву, пристала к Дуне негромким низким голосом, и два девичьих голоса, сплетаясь, понеслись по терему, стали слышны внизу, где сидели за брагой Исаков с Селезнеевым, в соседней тесной боковушке, где прилегла Марья Тимофеевна, на дворе, где в сумраке у колодца жильцы поили лошадей.
…Соизволь родимая матушка,
Осударыня премудрая София,
Ехать мне ко Земле светло-Русской
Утверждать веры христианские.
— Вот так-то, — качая красивой головкой, сказала Наташа, — поехал и наш Федор Гаврилыч.
Наезжает он, Георгий-храброй,
Ко той земле светло-Русской,
На те леса, на темные,
На те леса, на дремучие.
— Ох, и где-то он теперь? — вздохнула Наташа. Девушки продолжали согласно петь.
— Наезжает он, Георгий-храброй,
На тех зверей, на могучих,
На тех зверей, на рогатых…
Ой вы, звери, звери могучие!
Ой вы, звери, звери рогатые!
Заселитеся, звери могучие,
По всей земле светло-Русской!..
На мгновение пение прервалось, задрожав на высоком, красивом звуке. И в тишину терема донесся со двора протяжный, печальный вой.
— Это Восяй плачет по своем хозяину, — сказала Наташа.
— Он, боярышня, сегодня, как Федор Гаврилович уехал, ни крупиночки не ел, и воды даже ни капли не пил, — сказала Дуня. — Полная кошелка у него костей и даже мяса ему жильцы положили, а он только морду воротит. Запищит жалобно, словно ребенок заплачет, нос в лапы уткнет и так посмотрит, только что не скажет.
— Да вот, — сказала пожилая, — и пес, а тоже чувство какое сильное. Все понимает!
— Да пес, прости Господи, — сказала Дуня, — он вернее человека будет. Пес и простит и забудет, если кого полюбит, а человек обиду-то, что камень за пазухой носит… Ишь скулит, как жалостно!
— Ну, пойте, девушки, да и бай-бай пора, чай, боярышне, — сказала Марфа и завела своим густым, точно струна звенящим голосом:
— Егорий где наш храброй,
Ты спаси нашего Федора.
Дуня, улыбаясь, пристала к ее голосу:
— Федора, свет, Гаврилыча
Во поле и за полем,
В лесу и за лесом,
Под светлым под месяцем,
Под красным солнышком,
От волка от хищного,
От медведя лютого,
От зверя лукавого.
— От человека злого уберег бы моего Федора Гавриловича святый Георгий, — сказала Наташа, вставая из-за пяльцев. — Ну спасибо, милые, на беседе.
Девушки собирали работу и, кланяясь, уходили из горницы. Наташа подошла к своей постели и мягко опустилась на стеганое одеяло. Дуня, всегда раздевавшая ее, стояла подле.
Руки Наташи бессильно упали на колени, голова поникла, длинные русые косы сползли на грудь. Наташа стала их расплетать дрожащими пальцами.
— Господи!.. Как воет!.. Спать не смогу… Плачет собака-то…
— Пойти унять его?
— Не уймешь, Дуняша. Пусть выплачет свое горе! Так-то легче… И ему… и мне… Хотя бы весточку какую ему послать? Финиста ясна сокола сыскать, чтобы слетал к нему?..
* * *
Дуня расплела Наташины косы. Медным гребнем расчесывала золотистые волны.
— Боярышня, как думаешь, если его теперь пустить, ведь он найдет Федора Гавриловича?
— Кого пустить, Дуня?
— Восяя… С цепи снять и за калитку выпустить?
— Так что же будет? Он убежит. А Федор Гаврилович наказывал, чтобы нам Восяя беречь.
— Он, свет Наталья Степановна, умный. Никуда он не убежит. Следом пойдет и пойдет. И найдет Федора Гавриловича.
— Ну, найдет… А толку-то что?
— Как что. Да ты же ему напиши какую ни есть записку — он и прочтет, возрадуется.
— Как написать-то, — вздохнула Наташа. — Я читаю, не пишу — писать в лавочку хожу.
— А мы вот, как сделаем. Ты по-церковному-то в книгах маленько разбираешь?
— Так… больше по памяти, какое место упомнила.
— Вот и выбери, какое местечко вразумительное, чтобы Федор Гаврилович понял, что от тебя Восяй прибежал. То-то радости будет! Да и тебе спокойнее. От волка от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого, да и от человека убережет собака Федора Гавриловича. Она сильная. Утром-то два жильца еле сдержать на цепи могли. Прямо цепь рвет, аж трещит… А зубища-то!.. Что у волка!