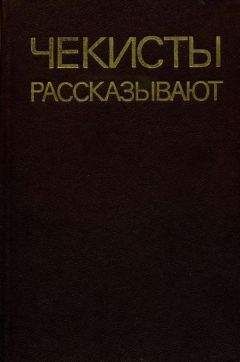Митцинский хмыкнул: капризы памяти непостижимы. Переложил револьвер в левую руку, сгреб монеты и, примерившись, выбросил их в окно. Прислушался. Внизу, под окном, — звон металла о камень, звучный, хлесткий, на всю улицу.
На звон бросился прохожий. Горец стегнул лошадей, подкатил к окну, прыгнул с арбы. Они вдвоем ползали на коленях по булыжнику, собирали монеты: крестьянин, спустившийся с гор, чтобы продать в городе кукурузу со своего огорода, и горожанин.
Из-за угла чертом выскочил боец с винтовкой наперевес, заорал свирепо:
— Назад! Назад, говорю! Не положено здесь!
Митцинский прицелился, выстрелил. Боец будто наткнулся с маху на что-то, стал заваливаться на бок. Митцинский оглянулся — черной, колодезной глубиной распахнулись глаза Ташу. Он вобрал ее всю, оглядел нежно, тоскующе и прыгнул в окно. Пролетел три этажа, обрушился на арбу с кукурузой, попал ногой на перекладину. Сухо хрястнуло дерево, полоснуло болью в ступне.
Митцинский поднял голову, крикнул в окно:
— Ташу, девочка моя, твое дело молчать! Об остальном я позабочусь!
Падая вперед всем телом, ударил кнутом по лошадиному крупу. Шерсть вмялась под витым ремнем, круп, перечеркнутый темной полосой, содрогнулся. Грохот колес по мостовой, храп лошадей.
Раз за разом выпускал в подводу, тщательно целясь, обойму из нагана боец ЧОНа — опоздал, засиделся в засаде. Спина Митцинского, окруженная пузырем трепещущей черкески, неумолимо уплывала.
Вхолостую щелкнул опустевший наган чоновца. Он поднял его, в изумлении всмотрелся в бесполезную теперь железку.
Арба скрылась за углом каменного дома.
. . . . . . . . .
На ступенях ревкома сидел и бился головой о стиснутые колени Аврамов:
— Ушел, сволочь! Я виноват!
Рядом кто-то презрительно фыркнул. Аврамов поднял голову — обомлел. В двух шагах от него, картинно выставив ногу, стоял бурый козел Балбес — тот самый, приманочный в барсовой охоте. Отпущенный тогда за ненадобностью на волю, использовал он теперь на всю катушку сладкую свою свободу — вонючий, дурашливый и независимый. Клок сена и голубая незабудка свисали с рога бродяги. Балбес долго смотрел на Аврамова бессмертным мефистофельским глазом, потом издевательски вякнул:
— Б-э-э-э-э!
Аврамов потряс головой: пустынная булыжная площадь и козел. Черт знает что! Обозлился. Встал, словно подброшенный пружиной, крикнул:
— Коня!
. . . . . . . . .
В кабинете Вадуева Быков кричал в телефонную трубку:
— Что-о? Почему не готово? — Долго слушал оправдания, тяжело двигал челюстью, морщился, будто прожевывая что-то горькое, потом сказал ровным, мертвым голосом: — Вот что: если через два часа весь материал о льготных концессиях, о связях Митцинского с Антантой и Турцией не будет набран и размножен, я отдам вас под трибунал как саботажника и пособника контрреволюции. Все. — Положил трубку на рычаг. Снова поднял, сказал: — ЧК мне, живо! — Подождал, распорядился: — Кошкин, давай две ракеты с колокольни — зеленую и красную. Оповести гарнизоны — вскрыть пакеты.
Двор Митцинского. Здесь соорудили, притиснули к каменному забору большую плетеную сапетку для спелой кукурузы. Она вмещала не меньше ста подвод. Рядом стояла пустая распряженная арба оглоблей в небо. Сквозь прутья сапетки золотом просвечивало напоенное солнцем кукурузное зерно. Впитали початки в себя спелость и негу кавказской осени, вобрали щедрые соки земли. Стекался во двор имама неизменный зерновой закят от мюридов.
На ступеньках крыльца сидел Ахмедхан. На поясе — кинжал, на коленях — карабин. За оградой на улице привязан черный жеребец с двумя хурджинами. В хурджинах — еда, белье. Через полчаса будет три. Не осталось надежды у Ахмедхана на возвращение хозяина. Однако все еще не верилось, что рушится их империя, сколоченная кровью и золотом в скитаниях и надеждах. Поэтому настроился мюрид ждать до самой последней минуты, завещанной хозяином, — ровно до трех. И лишь тогда, истребив ставшую бесполезной дворовую свору, — закордонных и своих, имевших вредные языки и уши, лишь потом подавать сигнал к восстанию. А после — Фаризу через седло и уходить в горы, чтобы раствориться там до лучших времен.
Вот такие планы имел в голове мюрид, сторожа всех, всю дворовую ватагу дармоедов и предателей, цепким коршуньим глазом.
Сидел у часовни Гваридзе, снимал и надевал пенсне. Маячило за окном мазанки лицо Рутовой. В другой мазанке маялись в безделье генштабисты. Тревожное и грозное повисло ожидание над двором.
Катал по скулам желваки, мерил пружинистыми шагами двор полковник Федякин, сшибая порыжелым сапогом сухие коровьи лепешки. Этот знал о начале восстания — в три. Поэтому била его дрожь нетерпения: скорее бы в ад, он хорош хотя бы тем, что окажется последним. Одно мучило: Фатимушку, дитя жалко, мочи нет смотреть на нее — чуяла неладное.
Фатима сидела у солнечных часов. Соорудил их полковник для своего приемыша в свободную минуту. Тень от палки, что торчала в центре круга, подползала к цифре «три», Федякин подошел, присел рядом с Фатимой. Спросил шепотом:
— Что, Фатимушка, чует сердечко неладное? Ах ты, господи... ничего, милая, как-нибудь, ласточка... смотри-ка, тень сюда доползет, тогда и начнем с богом.
Фатима поняла о начале. Стала тень останавливать, загородила ей дорогу ладошкой. Тень улиткой заползла на ладонь.
Тогда натаскал детеныш камней, сухих кизяков, построил перед тенью баррикаду. Тень одолела и ее. У Фатимы задрожали губы, смотрела ненавистно, маленьким зверьком, на черную, ползучую черту.
Трет платком, наводит блеск на зеркально чистое пенсне Гваридзе. Не спрятаться, не уйти — сидел на крыльце бескрылый стервятник, сторожил каждое движение.
Неподалеку от него примостился прямо на земле немой. Колотил камнем на камне грецкие орехи, ядра бросал в кастрюльку. «Цок... цок...» — стучали они по дну, отсчитывая, последние минуты. Стук становился все глуше. Сам батрак гляделся безмятежным, лишь настороженный, неломкий взгляд перескакивал с лица на лицо.
За синеватыми, чистыми стеклами мазанки по очереди появлялись распухшие от многодневного обжорства и пития лица военспецов.
Не выдержал всего этого Федякин, развернулся на каблуках (мотнулась шашка на бедре), дернул из кармана золотую луковицу часов — турецкий подарок, дернулся тугим торсом к Ахмедхану:
— Какого черта?! Ахмедхан, позвольте спросить — доколе? Было, кажется, ясно сказано: начинать в три!
— Тебе чиво нада? — ощерился Ахмедхан. Продолжил недобро: — Надоел ты, Федякин. Махать шашкой хочешь — дургой дэл, руби арба на дрова!