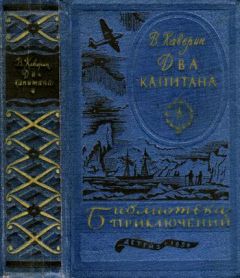…Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал хотя не все, но зато самое важное, то, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет — и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой ногой. Еще тысяча — и я увидел «Юнкерсы», два «Юнкерса», которые были много ниже меня и, как тяжелые, большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас — я понял это с первого взгляда.
Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили? Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною.
…Какое лицо у этого немца — красивое или безобразное, старое или молодое? Мне все равно: не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством.
Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его и себя в эту минуту: себя — схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его — поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул и что они, наверно, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину.
Не знаю, куда пришелся удар, — вероятно, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье!
И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить! Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же! Жить! Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога.
Что-то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни — и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре месяца… Но не станем забегать вперед.
Глава третья
ВСЕ. ЧТО МОГЛИ
Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока они тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у меня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны. Я был страшен.
…Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о радисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут. «Лури тоже жив! — с восторгом думалось мне. — Иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, и сейчас я увижу его».
Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли, и какая-то суровая старая женщина — единственная, которую я почему-то запомнил, — подошла и молча ткнула ее кулаком в морду.
У него было спокойное лицо, совсем нетронутое, только ссадина на щеке, — очевидно, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как-то устраивать руки…
А потом я трясся на телеге в санбат; какая-то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила:
— Осторожнее, осторожнее.
А я удивлялся и думал: «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверно, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила:
— Останетесь живы.
И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих-то коленях. Я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали.
Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие-то люди толпились передо мной, я искал среди них мою Катю, я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее, не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестройной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием.
— Ну, что, — сказал я этому немцу, — чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролечу! А ты мертв, убийца! Я победил тебя!
Глава четвертая
«ЭТО ТЫ, СОВА?»
Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован — голова, грудь, нога — и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что-то стучало, не знаю где — в голове или в сердце, — и мне казалось, что это жизнь стучит, и возится, и строит что-то еще слабыми, но цепкими руками.
Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос.
— Только я вышел из атаки, вижу — бензозаправщики. «Все», — думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно, — думаю, — а то врежусь, пожалуй». Отвернул — и тут меня что-то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну, — думаю, — оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь…
Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Борушан, гораздо тяжелее, чем я, — так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он.
…Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова — так звали моего соседа, — я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.