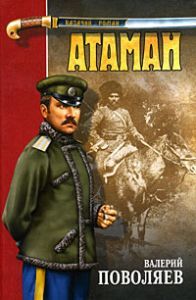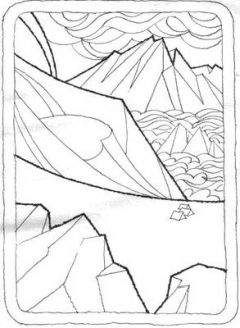скоро в армию), с места взял космическую скорость, под колесами туго завизжал асфальт, дома начали косо заваливаться назад, оскользать под свистящим напором воздуха. Прошло несколько минут, и вот уже мелькнуло последнее городское зданьице с осиненными, крашеными известкой стенами, и замелькали кусты и деревья, невысокие кипарисы, которым здесь, на просторе, чего-то не хватало, каких-то солей или вод, а возможно, их просто безжалостно сжигало солнце, и они, перегретые, имели столь малоразвитую, хворую стать, затем на полном ходу, под вонзающийся в уши скрип тормозов сделали поворот налево (сын Тимка сказал бы: «Сверток налево»), потом — еще немного визга, свиста и охлестов воздуха, и «рафик» остановился у чистенькой остекленной проходной, за которой начинался ровный, облитый асфальтом двор. По правую руку, во дворе, стоял длинный, смахивающий на конюшни и на крепость одновременно домишко.
— Вот она, наша «Массандра», — тихо и нежно проговорил Косаренко, провел перед собой рукой. — Раньше сюда с экскурсией можно было устроиться запросто, а сейчас — увы. Много желающих, мешают работать, пришлось прикрыть это дело, — он замолчал, улыбнулся чему-то своему, далекому, давно познанному, привычному. Место выбирал сам князь Лев Сергеевич Голицын, главный винодел удельных имений Крыма.
— Почему же именно здесь, в предгории? Вроде бы ничего примечательного тут нет...
— Есть, Василий Игоревич, есть. Здесь из-под горы бьет чистый источник, большой, река настоящая... А для виноделия хорошая вода — это, можно сказать, основа основ, главный компонент.
— Кто здание строил-то?
— Татары и турки, им было заказано. Пойдемте-ка, Василий Игоревич...
Потом, уже много позже, перебирая в памяти детали этого похода, Балаков не мог вспомнить, как они очутились на слабо освещенном, похожем на предбанник пятаке, обнесенном металлическими перильцами. Где-то высоко, оплетенная металлической сеткой, незряче посверкивала маломощная лампочка, от которой было проку не больше, чем от петуха сливочного масла (Тимкино выражение, оно всплыло тогда в памяти), Косаренко оставил его здесь на недолго, а сам пошел «утепляться». В подвалах, куда они собрались пойти, было довольно холодно, всего четырнадцать градусов тепла — температура постоянная и летом и зимой. Балаков постоял немного у доски, привинченной к грубой, сложенной из нетесаных бугристых камней стенке, — доска, медная, тяжелая, кажется, специального заказного литья, была установлена в честь Голицына. Другая доска, только уже не медная, а серебристая, с переливом, с черными выбоинами — следами чеканки, венчала стенку лицевую, также несильно освещенную, из необработанного камня, шипастую, холодную. На этой второй доске были выбиты слова Горького, побывавшего когда-то на заводе: «В вине больше всего солнца... Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него вносить солнечную силу в души людей». «А что? Правильные, хорошие слова. Сделать хорошее вино — это же большое искусство, это же радость людям приносит. Правда, невольно возникает мысль об алкоголиках, но... — Балаков переступил с ноги на ногу, — интересно, откуда эти слова? Из статьи? Или из рассказа?» Что-то он не припомнит этих слов. Откуда же они?
Он сунул руки в карманы пиджака, стиснул пальцы, которые были холодными, вялыми, немного чужими, непослушными. Оглянулся на звук, по легкости шагов понял — возвращается Косаренко.
— Виктор Владимирович, откуда горьковские слова?
— Из книги записей.
Балаков задумчиво улыбнулся, ощутил под лопатками какую-то незнакомую закаменелость, холодок — вот и к жизни бессмертных прикоснулся, рядом постоял, подышал одним воздухом.
— Пробыл Горький тогда у нас недолго, — продолжил тем временем Косаренко, — меньше часа. А уходя, к приписанному сделал еще и добавление: «Ушел относительно трезвый из-за недостатка времени».
— Книга эта цела?
— К сожалению, нет. В войну, когда Крым был занят немцами, на завод приехал гестаповец. Здоровенный, как лошадь, в коже, на автомобиле длиной с корабль. «Опель-адмирал» тот автомобиль. Побыл час, забрал документы, в том числе и книгу записей. К нему подошел наш старый винодел Новичков. Павел Алексеевич. Попросил Новичков, чтоб немец оставил книгу, да не тут-то было... Гестаповец довольно красноречиво пощелкал пальцами по кобуре пистолета, потом сделал: «Пух-пух!» — хорошо, что голосом попугал, а не из пистолета пульнул — и укатил. Так книга и пропала.
— Жалко, — тихо проговорил Балаков.
Величина заводских подвалов поразила его — подвалы были огромны, как олимпийские стадионы, полны простора и особой подземной сухости, тишины. Здесь можно было устраивать автомобильные гонки, подвалы могли вобрать в себя все ялтинское городское движение. С троллейбусами и такси, с грузовиками, автобусами, легковушками, пикапами, поливалками — со всеми механизмами, приспособленными к движению. На бокастых, поставленных в определенной, хорошо продуманной череде бочках были наклеены серые квадратины паспортов, где о будущем вине известно досконально все: и когда бочка была загружена, и какой сорт винограда из какого совхоза был использован, и количество ягоды, и купаж, и крепость, и сахаристость, и кислость — все, все, все! Балаков даже не подозревал, что хорошее вино так сложно изготавливать, что у него такая мудрая технология, что так много колдовства и умения надобно человеку, чтобы заковать, полонить солнце, превратить его во вкусно пахнущую, чуть вязковатую от сладости и горечи жижку. Отдельные бочки были так велики, что бедняга Диоген, поселись в такой махине, должен был бы заиметь, по крайней мере, велосипед, чтобы объехать свое жилье, осмотреть его. В чоповое, что снизу, отверстие, заткнутое массивной, сработанной из чурака пробкой, могла свободно пролезть человеческая голова — вот какие это были бочки! Пахло сухим буком, дубом, давленой ягодой, ключевой водой, хлебом, разгоряченной землей, еще чем-то хорошим, добрым, славным.
— Вот эту бочку мы сегодня пустим на оклейку, — Косаренко огладил рукой лишенный зазубрин бок — металлически-твердый, естественной пепельной окраски, с вороновой просиныю от старости, огромный.
— Что это за крокодил такой — оклейка? — поинтересовался Балаков, которого все происходящее начало понемногу выводить из состояния заторможенности, душевной худости, вялости. Он физически остро, беспокойно, до головокружения радостно и слезно ощущал, что к нему возвращается жизнь.
— Оклейка — это, чтоб очистить вино от грубости, от механических примесей, сора, мы добавляем в бочки рыбий клей. Либо желатин. Вино после оклейки становится самим собой. Чистым, мягким — словом, хорошим вином. А сейчас, Василий Игоревич, я вам святая святых покажу — библиотеку вин, иль, иначе говоря, энотеку. Энотека — это от слова «энос», от вина, значит... Греческое, — Косаренко остановился у простенькой, сплетенной из металлических полос