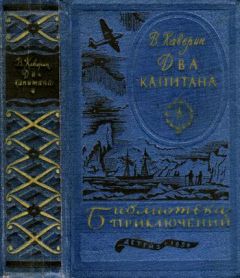— Не имеется, — отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице.
— Ну что же, соберите вещи. Немного: смену белья… Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы…
— Николай Иванович, это чушь, ерунда! — громко сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. — Я вернусь через несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам: требуха из Хвойной.
Вышимирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе.
— Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле… — еще громче сказал Ромашов. — Передай ей…
Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.
— Ладно, ничего, — пробормотал он.
— Виноват, не найдется ли у вас стакана воды? — сказал Вышимирскому человек в хорошенькой кепке.
Вышимирский подал. Теперь все стояли в передней: Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышимирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь:
— До свиданья, простите за беспокойство.
И вежливо пригласил Ромашова пройти.
Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:
а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но оформить, что могло занять часа полтора;
б) зайти в наградной отдел — еще в М-ове я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден и я могу получить в наркомате документ;
в) достать что-нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М-ова, я оставил одному балтийскому летчику-однополчанину в Ленинграде;
г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета.
Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору.
Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до поезда четыре или пять часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходьбы, и тогда — кто знает? — у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Ромашов.
Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли хоть на две минуты к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую — нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому.
Ровно в семнадцать часов я пришел к Слепушкину, а в восемнадцать был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня, а теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не Попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления.
Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе, и так далее. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать.
Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу. Я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.
Это был Николай Антоныч.
Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал — что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?
Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.
Часть девятая
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете! Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, невыспавшиеся, хмурые, — война!
На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бережно берут черный хлеб солдатские руки, — война! Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать — зовут и не могут дозваться, — война! Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом, — война!
Все вижу я и все помню. Но медленно среди света и тени находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны.
Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, по-летнему тихих полей. Прожектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе. Вот и город — на каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев — дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.
— Канцелярия откроется в девять часов, — говорит она, — а сейчас половина четвертого ночи.
Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя?
Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет — белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня — семнадцатилетний мальчик, я сижу в приемном покое, а там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом.
— Имя, отчество, фамилия, возраст? — спрашивает главный врач.
Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни.
Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве — правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт?