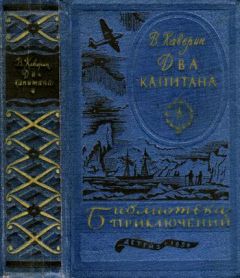Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые, нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках — как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни.
Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей — только трем или четырем «старикам», вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе и нельзя было называть этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось двадцать четыре года.
Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать, — один из многих вопросов, которые нежданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на Север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной, — поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти — почему-то полагается думать, что между «отцами и детьми» непременно должна быть пропасть. Но что-то было — недаром же на Н. я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки.
Кто знает, может быть, именно потому, что я так «помолодел», судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н., отнеслась ко мне совершенно иначе.
В июле я ходил еще с бомбами на Киркинес — и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на «свободную охоту» — так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и «ушла налево». Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи (некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот) с неопровержимой ясностью доказал, что именно так «не следует топить транспорты». Через два — три дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже — так низко, что принес домой кусок антенны, застрявшей в плоскости самолета. При этом транспорт — мой первый — был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение.
Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль — в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал.
Так шла моя жизнь — в общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского.
У меня были уже и друзья на Н. — неподвижный, молчаливый штурман, с трубкой, в широких штанах, оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос: «Где мы?» — всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая: в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь.
Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда неотправленных писем — я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны.
Между тем друг, и самый истинный, был так близко, что стоило только сесть на катер — и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих неотправленных письмах.
Глава четвертая
ДОКТОР СЛУЖИТ В ПОЛЯРНОМ
Всю ночь мне снилось, что я снова ранен. Доктор Иван Иваныч склоняется надо мной, я хочу сказать ему: «Абрам, вьюга, пьют» — и не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые.
И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытьи, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что-то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело: Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном.
Тогда, в эшелоне, я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил! С домом на улице его имени! С ненцами, которые прозвали его «изгоняющим червей» и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве! Ромашов ошибся — не в Полярном, а в Заполярье.
Но в то утро на Н., сам не зная почему, я подумал: «А вдруг не ошибся?»
В самом деле — мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за тридевять земель, в Ленинград летом 1941 года? Что, если он действительно служит в Полярном и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом?..
Дежурный вошел, сказал негромко:
— Подъем, товарищи, — и захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула.
Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час — он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что «мало ли Григорьевых на свете». Но на другой день, под утро, еще лежа в постели, решил, что это, без сомнения, я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону.
— Иван Иваныч, дорогой! — сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Иваныча голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. — Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаете меня? Саня!
Осталось неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что «докладывает военврач второго ранга Павлов».