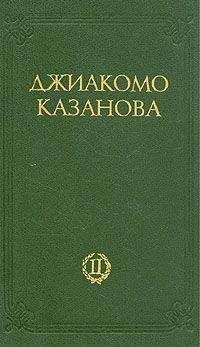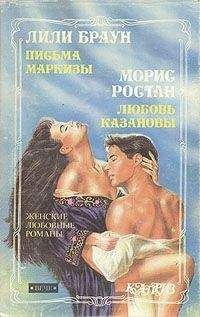Итак, я оказался в совершенно отчаянном положении, но более всего меня удручало то, что пришлось признаться самому себе в начинающемся упадке сил — неизбежном следствии возраста. У меня уже не было той беззаботной уверенности, которую дают молодые силы и чувства, но в то же время не доставало жизненного опыта для исправления своего состояния. Тем не менее, благодаря выработавшимся привычкам, которые образуют твёрдый характер, я решился незамедлительно покинуть Рено и ждать её в Аугсбурге. Она же не сделала никаких усилий, чтобы удержать меня, однако обещала вернуться сразу же, как только ей удастся выгодно продать свои бриллианты. Я уехал, послав вперёд Дюка, весьма довольный, что Дезармуаз почёл за благо остаться с презренным созданием, столь несчастливое для меня знакомство с которым было делом его рук. Явившись в свой прелестный аугсбургский дом, я улёгся в постель с твёрдой решимостью покинуть её или мёртвым, или же избавленным от терзавшего меня яда. Мой банкир, г-н Карли, рекомендовал некоего Кефалидиса, ученика знаменитого Файе, несколько лет назад в Париже избавившего меня от такой же болезни. Этот Кефалидис почитался лучшим хирургом города. Исследовав моё состояние, он заверил, что излечит меня одними потогонными средствами, не прибегая к помощи смертоносного скальпеля. Он начал с того, что назначил мне жесточайшую диету, ванны и растирания ртутными мазями. На протяжении шести недель я подчинялся сему распорядку и не только не выздоровел, но оказался в ещё худшем состоянии. Я превратился в скелет, а в паху у меня образовались две опухоли ужасной величины. Пришлось решиться на вскрытие, но эта болезненная операция, едва не стоившая мне жизни, ни к чему не привела. По неловкости он задел у меня артерию, и лишь с большим трудом удалось остановить открывшееся кровотечение. Я непременно умер бы, если бы не заботы г-на Альгарди, врача из Болоньи, находившегося на службе аугсбургского князя-епископа.
Доктор Альгарди даже и слышать не хотел про Кефалидиса и самолично в моём присутствии изготовил из персидской манны сто десять пилюль. Я принимал одну пилюлю утром, запивая большим стаканом снятого молока, и одну вечером вместе с ячменным супом. Этим и ограничивался весь мой стол. Сие героическое лекарство поставило меня на ноги за два месяца, но всё это время я провёл в величайших мучениях. Поправляться и набирать силы я стал лишь к концу года.
Во время болезни я узнал об исчезновении Косты вместе с бриллиантами, часами, табакерками, бельём и кружевными костюмами, которые мадам д'Юрфэ отправила с ним в увесистом чемодане, не говоря уже о полученных им на дорогу ста луидорах. Эта добрая дама послала, кроме того, мне вексель на пятьдесят тысяч франков, который, к счастью, она не успела вручить мошеннику, и эти деньги явились весьма кстати, чтобы вырвать меня из почти нищенского состояния, в которое я был ввергнут своим беспутством.
В то же самое время меня постигла ещё одна неприятность — я обнаружил, что Дюк нечист на руку. Несмотря на это, я оставил его при себе до возвращения в Париж в начале следующего года. К концу сентября, когда стало ясно, что конгресс не соберётся, Рено вместе с Дезармуазом проехали через Аугсбург, направляясь в Париж. Однако же они не осмеливались явиться ко мне из боязни, как бы я не потребовал возврата своих вещей, присвоенных сей женщиной. Года четыре спустя она вышла замуж в Париже за некоего Бомера, того самого, который передал кардиналу де Рогану знаменитое ожерелье, предназначавшееся несчастной Марии-Антуанетте. Рено была в Париже, когда я туда вернулся, но я не желал видеть её, стараясь всё забыть, поскольку прекрасно понимал, что за весь сей бедственный год самым жалким было собственное моё поведение. Тем не менее я не настолько проникся презрением к подлому Дезармуазу, чтобы лишить себя удовольствия отрезать ему уши, если бы к тому представилась возможность. Но старый плут, конечно же понимавший, что его ожидает, почёл за лучшее скрыться. Он умер в бедности по прошествии недолгого времени где-то в Нормандии. Как только восстановилось моё здоровье, я забыл обо всех прошлых несчастьях и вернулся к развлечениям.
Моя преотменнейшая кухарка Анна Мидель, столь долго остававшаяся праздной, принялась за дело, дабы удовлетворить мой ненасытный аппетит, и в продолжение трёх недель я занимался только тем, что возвращал соответствующее моему темпераменту состояние.
Очаровательная хозяйская дочь Гертруда и моя кухарка, обе молодые и привлекательные, сделались предметом моей любви одновременно, в чём я признался им, поскольку предполагал, что, приступая к каждой по отдельности, не добился бы успеха ни у одной их них.
Около сего времени в Аугсбург приехала захудалая труппа моих соотечественников, и я помог им получить разрешение представлять спектакли в одном плохоньком театрике. Поскольку это событие послужило причиной весьма занимательной истории, я расскажу о нем в надежде позабавить читателя.
Ко мне явилась некая женщина, некрасивая собой, но сообразительная и словоохотливая, как истинная итальянка. Она просила ходатайствовать перед городскими властями о разрешении для их труппы представлять комедию. Несмотря на свою непривлекательность, она была всё-таки моя соотечественница и пребывала в бедственном положении. Посему, даже не спросив её имя и не интересуясь достоинством их представлений, я обещал своё содействие и без труда получил просимое разрешение.
Явившись к ним на премьеру, я с удивлением узнал в первом актёре одного венецианца, с которым двадцать лет назад учился в коллегии Св.Киприана. Его звали Басси, и он, так же, как и я, не пожелал заниматься ремеслом священника. По всей очевидности, он претерпевал жестокую нужду, в то время как я выглядел пресыщенным богачом.
Любопытствуя узнать о его приключениях и привлечённый тем чувством доброжелательства, которое всегда сохраняется в нас к сотоварищам юности, а также желая насладиться его изумлением, я, как только опустился занавес, пошёл на сцену. Он сразу же признал меня и с восклицаниями радости заключил в свои объятия. Потом представил свою жену, ту самую женщину, которая приходила ко мне, и тринадцатилетнюю дочь, отличавшуюся красотой, — я с удовольствием смотрел, как она танцевала во время представления. Заметив моё расположение, он повернулся к своим актёрам, у коих исправлял должность директора, и без дальнейших церемоний отрекомендовал меня лучшим своим другом. Эти добрые люди по роскошным одеждам и кресту на ленте приняли меня за известного шарлатана, ожидавшегося тогда в Аугсбурге. Мне показалось странным, что Басси не пытался разуверить их.