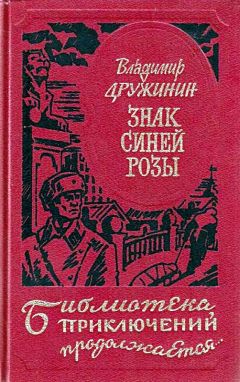Надеинский усмехнулся:
— Я вспомнил Клёново, Сергей, Твой отец вот так же хватался за голову и восклицал: «Чудовищно!», когда ему доказывали, что Сиверс — убийца.
Надеинский ушел, а я еще долго сидел в тягостном раздумье. Как помочь Надеинскому? Иногда во мне вдруг поднималась досада на него. Как случилось, что Маврикий Сиверс еще не пойман? Быть может, Надеинский напрасно бросил химию в свое время, — быть бы ему лучше химиком, а поиски врагов предоставить более умелому. И снова настойчивый вопрос: как помочь? Шесть специалистов, работающих на промысле, учились в Ленинграде, когда там, в институте, под видом завхоза Тарасова был старый Сиверс. Мы только что перебрали с Надеинским всех шестерых и, должен признать, я не блестяще знаю людей. Далеко не блестяще! С головой ушел в геологию, а к людям, стоящим бок 6 бок, как-то не нашел времени присмотреться.
Конечно, Симакова и Касперского я знаю получше. Касперский был и остался белоручкой в науке, барином. Да, барином! Нет, уж он-то не полезет лишний раз в балку! Он по-прежнему любит цитировать самого себя, любит покой и тех, кто ограждает для него славословиями этот дешевенький покой. Поэтому — хоть и с иронической усмешкой — Касперский покровительствовал даже Симакову, который, помню, как-то до войны возгласил на одном заседании: «Валентин Адамович — большой ученый! В глаза скажу! Резко, может быть, но правильно, товарищи!» Касперский, верно, и сам не заметил, как оброс самодовольством, стал сторониться свободных дискуссий, критики, превратил свою кафедру в университете в единоличное владение. И не только кафедру! Он удивился бы, если б ему сказали, что он добивался последние годы не столько научной истины, сколько монополии в геологии Дивногорской области. Но это так!
Касперский, вероятно, видел Генриха Сиверса в институте, и, во всяком случае, они имели тысячу возможностей познакомиться. Но это еще не улика.
И снова мои мысли обращаются к Симакову. Я вспоминаю наше столкновение в студенческие годы, его кляузы, когда я закладывал первые буровые под Дивногорском. Я вижу Симакова, стоящего на затопленной трубе газопровода, приплясывающего на ней, и ощущение, возникшее тогда у меня, оживает. Мокрый, в хлюпающих сапогах, он был жалок мне. В нем под внешней лихостью было что-то трусливое, истерическое… А почему он, вернувшись из армии, оставил своего патрона Касперского, решил прослыть энтузиастом дивногорской нефти? Правда, он усердно гасил горящий фонтан… Но во всем — такое неприкрытое жадное стремление сделать карьеру! Теперь открылось его прошлое, которое он так судорожно скрывал. Пусть вся прежняя его жизнь была изуродована, отравлена ложью, но сейчас его освободили от лжи! Ему бы вздохнуть свободно, по-другому посмотреть в глаза людям!
Я вижу мастера Загоруйко — отца Симакова. Вот кого мне по-настоящему жаль! Он всё сделал, чтобы вернуть сына. Надо будет поговорить с Симаковым, пристыдить…
Подумав так, я очинил карандаш и снова нагнулся над картой, где синими крестиками, пока эскизно, обозначались будущие буровые.
Наутро я выехал в Соломенную балку. Осматривал обнажения, уточнял план закладки скважин. Видел мельком Симакова, но не говорил с ним о Загоруйко. Симаков ходил растерянный, жаловался на дождь, вконец испортивший дорогу. Как возить с берега, вверх по откосу, бревна для вышек! Как всегда, нахлынули на меня трудовые заботы промысла, и тяжесть подозрений, вспыхнувших вечером, стала как-то менее ощутимой.
Между тем мы стояли на пороге жестокой схватки. Враг стягивал силы.
В тот самый день в наш поселок на почту явился мужчина лет пятидесяти — грузный, с белесыми бровями, в солдатской шинели, и попросился на временную работу — в письмоносцы. Из бумаг его следовало, что он военнослужащий, находится в долгосрочном отпуске после ранения. Родных своих, живших в Воронежской области, он найти не смог и решил провести остаток отпуска в Дивногорске… Словом, документы ефрейтора Клочкова наконец выплыли!
Об этом Надеинский не сказал мне тогда ни слова, но отныне я буду излагать события, в основном придерживаясь их последовательности.
Нетрудно понять, что лже-Клочков тотчас поглотил всё внимание Надеинского. Впоследствии он ругал себя за то, что на время забыл всё остальное, но кто поступил бы иначе! Не знаю…
Одного взгляда было достаточно Надеинскому, чтобы сказать себе: нет, это не сам Маврикий Сиверс. Почтальон старше. Но он, конечно, связан с Сиверсом: ведь не кто другой, как Сиверс, не мог бы снабдить его отпускным билетом и красноармейской книжкой Клочкова.
Как поступить? Арестовать? Нет, решил Надеинский. Схватить подручного значило бы спугнуть хозяина. Надеинский и Карпович начали следить за врагом — следить неотступно, осторожно…
Новый почтальон обнаружил немалое усердие. Признаться, я с некоторой симпатией смотрел на пожилого человека с сумкой, энергично карабкавшегося по косогору к буровой. До сих пор письма и газеты доставляли на дом, их читали вечером, после работы. Новый работник почты взялся сам обходить буровые. В два-три дня он уже хорошо усвоил расположение участков, и мы видели, как он, покинув проезжую дорогу, шагал по тропе или прямиком через степь — желто-бурую от высохшего ковыля и полыни.
— Люди доро?гой, а черт стороной, — говорил он о себе, снимая сумку и переводя дух. — Здравствуйте, кого не видал.
Держался он бывалым солдатом, охотно рассказывал: служил-де писарем в штабе полка, попал под артналет. Осколком задело легкое. И сейчас еще больно дышать…
Однажды я задержался до сумерек на дальнем участке — не доходя Соломенной балки, откуда берет начало газопровод. Рабочие собрались на перекур, я отозвал в сторону мастера Загоруйко и спросил, как он живет с сыном. Загоруйко ответил, что переехал обратно в общежитие. Не склеилось у них. Светлячок папиросы дрожал в его руке. В эту минуту из полумрака возникла фигура почтальона.
— Фу ты! Испугал даже, — бросил Загоруйко.
Раздав почту, тот ушел, а Загоруйко сказал:
— Полюбился ему наш участок.
— Разве? — отозвался я.
— Ну, не то чтобы полюбился… Спрашиваю его вчера: зачем тащился к нам в такую даль? Почты — почти ничего! А он мне: нет, мол, надо! Сами, мол, критику наведете: почтарь ноги свои жалеет, не ходит к нам. И давай доказывать, что главная его заслуга — нас, то есть дальних, обслужить. До Соломенной балки ему не дойти, дня не хватит, а то бы и туда махнул.
Участок здесь, действительно, самый малолюдный. Работает только одна вышка. Две скважины уже разбурены, закрыты стальными задвижками и тихо, без помощи человеческой руки, подают газ. От них тянутся трубы и срастаются с газопроводом.