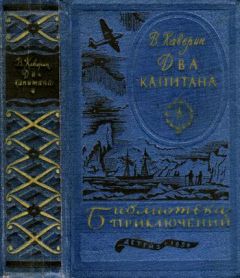Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях — между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему в конце концов доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось.
Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас, — лучше он начаться не мог! Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе, еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом «чувстве возвращения», которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места, война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года.
А вечером был салют. Позывные «важного сообщения» прозвенели без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком — совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.
Глава седьмая
ДВА РАЗГОВОРА
Два дела было у меня в Москве: первое — доклад в Географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию «Св. Марии», и второе — разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н. я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на Собачьей площадке.
Начну со второго.
Осенью 1943 года Ромашов был осужден на десять лет — я узнал об этом от работника Особого отдела на Н., который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось — тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н. мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких-то дополнительных данных.
Все это было неприятно и скучно, и, вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался — отпуск был бы так хорош без него!
На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следователю, который вел дело Ромашова…
Приемная была общая — полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди — старики, девушки, какие-то военные без погон — сидели на них, дожидаясь допроса.
Я нашел кабинет моего следователя — на двери значилась его странная фамилия: Веселаго, — и, так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была недурна, но флажки далеко отставали от линии фронта.
Знакомый голос оторвал меня от этого занятия — такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах.
Голос спросил:
— Можно?
Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антоныч закрыл ее и сел на скамью с немного оскорбленным видом. Я встретил его в последний раз в метро летом 1942 года — таков он был и сейчас: величественный и снисходительно-важный.
Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает — в печати об этом не появилось ни слова — о том, что среди бумаг капитана Татаринова обнаружены бесспорные, неопровержимые доказательства моей правоты…
Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу. «Узнал», — подумал я весело. Он узнал — и отвел глаза.
…Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача! Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы:
— Если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?
— Да.
Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.
— Вижу, что время не прошло даром для вас, — глядя на мои орденские ленточки, продолжал он. — Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?
— На Крайнем Севере.
— Надолго в Москву?
— В отпуск, на три недели.
— И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной? Впрочем, это наш гражданский долг, — прибавил он с почтительным выражением. — Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова?
— Да.
Он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание!
— Не человек, а воплощенное зло, — наконец сказал он. — Я считаю, что общество должно освободиться от него — и как можно скорее.
Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия. Но я был обыкновенным человеком, и мне захотелось сказать ему, что, если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоныча Татаринова, ему (обществу) не пришлось бы возиться с Ромашовым.
Я промолчал.
Ни слова еще не было сказано об экспедиции «Св. Марии», но я знал Николая Антоныча: он подошел, потому что боялся меня.
— Я слышал, — начал он осторожно, — что вам удалось довести до конца свое начинание, и хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.
Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо! Нужно сделать вид, что я его принимаю.
— Да, кажется, кое-что удалось.
Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках — так он оживился. Все прошло и забыто, он теперь влиятельный человек, почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим — в самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он, — у меня ордена, удача, и он может по себе, по своим удачам судить обо мне…