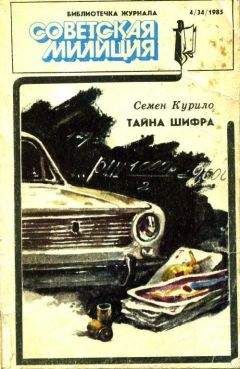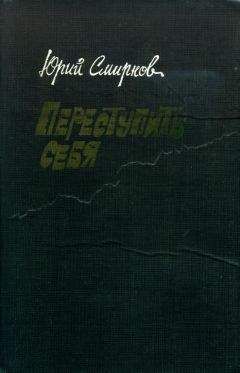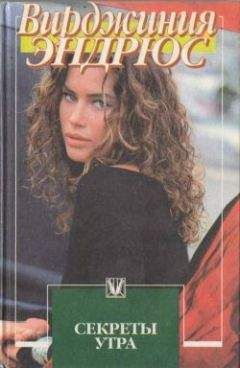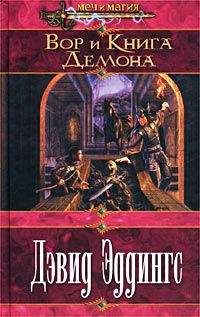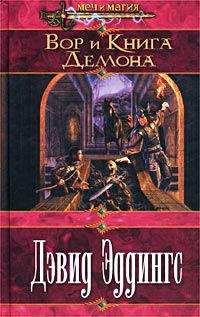— Знаю, — обронил Сонькин, — воробей я, как говорится, стреляный. У меня вопрос. Так сказать, для общего образования. Можно?
— Спрашивайте.
— Почему следователи каждый раз старательно добиваются признания вины, почему они так делают, если, как вы сами говорите, это сути дела не меняет?
Гвоздев на минуту задумался: трафаретно отвечать не хотелось, чувствовал, что в этом невзрачном на вид человеке есть что-то особенное, хотя назвать это «особенное» он теперь затруднился бы.
— Я бы о многом мог сказать, — подумав, проговорил он, — но скажу не главное, а, некоторым образом, второстепенное, именно: признав себя виновным, обвиняемый как бы признает себя побежденным. За обвиняемым предполагается честное и максимально полное изложение обстоятельств дела, освещение всех, до того не ясных и темных моментов, далее: добросовестное сожаление обвиняемого о совершенном, глубокое понимание незаконности своих действий и самое искреннее раскаяние в содеянном.
— Уразумел и поэтому вину свою в краже чемодана признаю.
— Тогда у меня тоже вопрос. И тоже «для общего образования». Как вы думаете, почему такие преступники, как, скажем, вы, всегда стремятся, невзирая ни на какие обстоятельства, отрицать свою виновность? Ведь они знают, что это им ничего не дает, а все же делают. Почему?
— Традиция…
— Не традиция, а уловка. Иной хитроумец надеется, что следователь что-нибудь упустит, и тогда в деле возникнет щель, в которую через непризнание вины и будет предпринята попытка вылезти сухим из воды. Что, неверно?
— Может, и так, — покорно согласился Сонькин.
Александр Михайлович помолчал и тихо добавил:
— Смотрю я на вас, Павел Семенович, и все кажется мне, что хороший вы человек. И как загляну вот в эту справку, о ваших прошлых судимостях, верить не хочется написанному. Как же так?
Лицо Сонькина стало серьезным. Он долго молчал, потом горестно произнес:
— Несчастный я человек, вот в чем моя беда. Просто несчастный, обделенный счастьем от природы.
— Ну это уж мистика какая-то, — возразил Александр Михайлович. — Говорят, каждый человек — кузнец своего счастья. Отбросьте убеждение о своей несчастности. Это просто-напросто суеверие.
— Может, и суеверие, — грустно покачал головой Сонькин. — Только жизнь-то не получилась. Она, считайте, уж прошла. А что я видел? — и слезы медленно выкатились из его глаз.
— Ну-ну! Успокойтесь, — голосом, полным искреннего сочувствия, сказал Александр Михайлович.
Вечер угомонил дневную суету в отделе. Тишина воцарилась в коридорах. Тихо было и там, где теперь сидели друг против друга следователь Гвоздев и вор Сонькин.
Сонькин старался успокоиться. Гвоздев не торопил его. Он вынул из стола пачку сигарет, положил ее перед Сонькиным.
— Курите, Павел Семенович, — предложил он, — и давайте продолжим разговор по делу.
Заканчивая допрос Сонькина, Александр Михайлович взглянул на циферблат, шел уже десятый час. Только сейчас он почувствовал, что устал. Появилась боль а затылке, мысли стали терять остроту и четкость.
Сонькин с явным сочувствием смотрел на следователя. Он подписал протокол допроса, даже бегло не просмотрев плотно исписанные мелким убористым почерком страницы.
— Нужно прочитать протокол, Павел Семенович, — сказал Гвоздев.
— Я вам полностью доверяю, — ответил Сонькин. — Устали вы очень.
— Да, — согласился Александр Михайлович.
— Я вам про всю свою горемычную жизнь рассказал бы, — проговорил Сонькин, — ничего бы не утаил, да устали вы, не до меня вам.
Тихо прикрыв за собой дверь, в кабинет вошел инспектор уголовного розыска Лукин.
— Долго еще будешь этим дебоширом заниматься? — кивнув в сторону Сонькина, спросил он.
— Заканчиваю, — коротко ответил Гвоздев. — А почему он дебошир?
— Такой грохот днем устроил.
— Правда это, Павел Семенович?
Сонькин смущенно опустил голову, тихо сказал:
— Тоска заела, один в камере сижу. — Он помолчал несколько секунд и добавил: — А потом, я хотел всю эту… но… — махнул рукой, так и не закончив свою мысль и как бы категорически отказываясь от чего-то.
— Что «всю эту»? — насторожился Лукин.
Сонькин, потупясь, молчал.
— Подожди, Коля, — остановил Александр Михайлович Лукина, — подожди, не надо. — И Сонькину: — Сейчас, Павел Семенович, мы прервем наш разговор, а завтра продолжим. И насчет камеры завтра подумаем. Знаешь, Коля, — сказал он Лукину, — Павел Семенович человек общительный и в одиночестве ему действительно тяжеловато…
— Да он же не сознается, — возразил было Лукин.
— Полностью сознается и раскаивается.
— Ну, это другой разговор.
ОКАЗАВШИСЬ снова в камере, Сонькин накурился чуть ли не до тошноты. Посидел некоторое время, преодолевая легкое головокружение, потом встал и негромко постучал в дверь.
— Не ругайся, дорогой, — робко сказал он милиционеру, — не надо. Помоги мне лучше. Принеси несколько листов какой-нибудь бумаги и хоть огрызочек карандаша. Хочу я все следователю выложить.
Еще прошлой ночью он, проснувшись от неудачного лежания на нарах, почувствовал, что в нем словно что-то надломилось. И будто озарение нашло на него. Он вдруг со стороны увидел всю свою жизнь. Все было глупо, дико, безобразно. А за плечами уже более сорока. Жизнь-то, считай, прожита. И где прожита? В основном в колониях, а в короткие промежутки между ними — в пьяном угаре, бесприютно.
Одна за другой мелькали картины безрадостного бытия. Но ведь могло все сложиться иначе.
И он вспомнил, что хорошо учился в школе, был понятливым, способным учеником. В тяжкую пору войны, — кое-как одетый, в старых-престарых валенках и почти всегда голодный, он ходил в школу за три километра от дома и был одним из самых успевающих. Отец и старший брат погибли на войне. У матери кроме него еще двое младших. Павлик успешно закончил семилетку, поступил в МТС учеником слесаря. Все бы пошло ладно, да грех попутал. С того греха началась кривая дорога.
Мелькали страницы горькой жизни, больно было от обиды, от жуткого сознания безвозвратности прошлого.
«И какая же дубина! — бранил Сонькин самого себя. — Взять хоть этот, последний случай. Ну зачем я пошел с Кандыбой? И на работу уж почти устроился, и место в общежитии дали бы. Мало-помалу обжился бы. Глядишь, и женщина подвернулась бы подходящая, семьей бы обзавелся. Но нет! Встретился Кандыба. С деньгой. Бутылку выпили, другую, и пошло. А он, Кандыба, может, и не обиделся бы. Не хочешь — не надо. Нашел бы другого напарника. Эх, мямля! Вот и полируй теперь нары. А чемоданишко-то он взял, Кандыба».