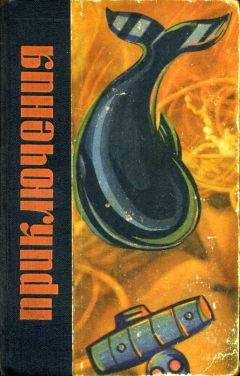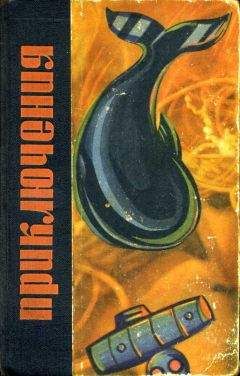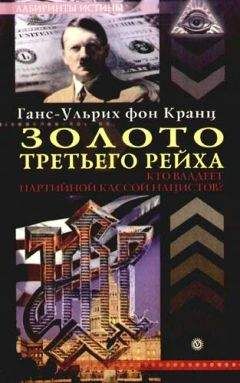У охотничьего магазина ветер крутит пыльные смерчи, срывает ржавую листву с тополя. Прикрыв глаза рукой, я хочу юркнуть в дверь, но меня останавливает стук мотоциклетного двигателя. Вкрадчивый, тихий звук — как мурлыканье.
Двухцилиндровая «Ява» мягко подкатывает к крыльцу. С заднего сиденья соскакивает мужчина в кожаной куртке, плотный и широкоплечий. Наклонившись к мотоциклисту, подростку в белом шлеме и очках, он что-то тихо говорит: извинительно-ласкова, даже заискивающа его поза. Рука осторожно и примирительно касается плеча мотоциклиста.
Какой-то внутренний толчок удерживает меня на пороге. Мотоциклист... Что-то знакомое в его фигуре, повороте головы. Словно прилипший комок снега, он сбрасывает руку с плеча, и это небрежное и гибкое движение также кажется знакомым мне. Кажется, я присутствую при какой-то небольшой ссоре.
«Ява» скрывается в облаке пыли. Я останавливаю мужчину, поднимающегося на крыльцо.
— Простите.
Он смотрит раздраженно и с неприязнью. Ему лет тридцать пять, лицо довольно красивое, из тех, что принято называть мужественными: тяжелый подбородок, крупные скулы, глубоко сидящие жесткие глаза. Темный, прочно въевшийся в кожу загар. Только морщины белеют.
— Видите ли... Я жил когда-то в этом городе, и мне показалось... Этот человек, эта девушка на мотоцикле — Лена Самарина?
— Самарина. Извините!
Он взбегает по деревянной лесенке. Ступеньки скрипят под тяжелым телом. «Очень энергичный мужичок, — думаю я, глядя на широкую, выпуклую спину. — Такие берут жизнь просто, как яичницу со сковородки. Ну, пусть! Ладно».
В маленькой конторе правления — начальник колодинской милиции, капитан Комаровский, его помощник и Дмитрий Иванович, бессменный предводитель здешних охотников.
Дмитрий Иванович сразу узнает меня.
— Паша! — говорит он и трясет мою руку. Очки его, сползшие на кончик носа, тоже трясутся. — Наконец-то завернул к нам! Несчастье-то какое! Не думали, не гадали...
— Как Лена? — спрашиваю я.
— Лена. Ох, Лена! — сияет старик. — Сорванец, как и прежде. Преподает физкультуру. На мотоцикле гоняет. Хуже парня...
Это в восьмом классе мы с ней взбудоражили весь город, когда тайком отправились в путешествие по Катице, а лодка перевернулась, и мы очутились на маленьком скалистом островке. На пятые сутки нас снял катер. Мне здорово досталось тогда.
— Ты бы хоть писал изредка. Всё дела?
— Дела...
Сказать бы прямо — забыл, вот и не писал. А тут, приехав в Колодин, вспомнил. Невозможно не вспомнить, потому что Колодин — мое детство, а детство — это Ленка. Да и только ли детство? Там, у дома Коробьяникова, мы впервые поцеловались. «Отец говорит, он был хороший, Коробьяников, — сказала Ленка. — Больницу выстроил и библиотеку». — «Он был купец, буржуй, — ответил я. — А больница — это филантропия». — «Ты дурак. Филантроп знаешь что значит? Любящий людей». — «Ерунда». — «Ну и дурак». Мы, как всегда, поспорили, а потом... поцеловались. В доме Коробьяникова светилось окно, и тополя шумели под ветром. Городок наш безлесный, и только у этого дома был зеленый оазис. Здесь шелест листвы заглушал шепот.
Позднее мне пришлось задумываться над этим спором, и я понял, что филантропом можно быть, даже если работаешь в милиции. Точнее — особенно если работаешь в милиции. Нас считают суровыми людьми. Наверно, так оно и есть. Сотрудникам угрозыска жизнь предоставляет не так уж много поводов для улыбки и радужного настроения. Только об этом не каждый знает, но я помню, как однажды Николай Семенович вытащил из стола толстую пачку писем и сказал: «Знаешь, самое ценное для меня — это...»
Ему писали люди, которые, казалось бы, имели основание считать моего шефа врагом. Писали из колоний, из тюрем, из мест высылки. «Вы дали мне понять, что не все потеряно в жизни...», «Хочу поскорее вернуться к честному труду и надеюсь на вашу помощь по приезде». Сотни писем. Майор возился с теми, кто в глазах многих людей был «отпетым» и «конченым». Он ездил в колонии, устраивал своих подопечных на работу, улаживал какие-то сложные семейные конфликты. Меньше всего Эн Эс был похож на того угрюмого и неподступного сыщика, какими я представлял раньше сотрудников угрозыска.
— Ну что ж, начнем, — предлагает Комаровский.
Долговязый, худой, он маячит сквозь полосы табачного дыма. «Дядя Степа» — так мы звали Комаровского, когда он был старшиной и дежурил на колодинском рынке. Мне кажется, сейчас дядя Степа поступает несколько прямолинейно, пригласив такую уйму охотников для опознания ножа. Но ему виднее. Он уже давно в Колодине и знает здесь всех и все.
— Кто у нас приглашен первым?
— Жарков, — отвечает помощник.
Входит широкоплечий человек в кожаной куртке, тот самый, которого привезла на мотоцикле Ленка Самарина.
— Жарков, из автошколы ДОСААФ, — шепчет мне Дмитрий Иванович. — Наверно, ты слышал — он чемпион области по мотокроссу, мастер спорта.
В голосе Самарина я улавливаю нотки неприязни. Чемпион спокойно оглядывает нас, глаза его твердо поблескивают.
— Нас интересует эта штука, — говорит Комаровский, показывая на стол, где лежит злополучный нож. — Дмитрий Иванович говорит, что как будто видел нож у кого-то из охотников, но точно не помнит. Вы нам не поможете?
Жарков внимательно рассматривает нож. Лезвие тускло мерцает. Вот от этого холодного куска стали погиб инженер Осеев, строитель, хороший человек. Погиб из-за нескольких сотенных бумажек...
Нож заметный. Наборная плексигласовая рукоять, отличной стали широкое лезвие. У самой рукояти, там, где кончается желобок, отчеканен странный рисунок: лев под пальмой. Николай Семенович, взглянув на эту экзотику, сразу определил: «Золингеновский. В Германии сделали несколько тысяч таких ножей для африканского корпуса Роммеля. Кто-то, наверно, привез с войны как трофей, а потом уже переделал рукоятку и переточил лезвие».
— Боюсь, что не смогу помочь, — Жарков пожимает плечами. — Не видел...
— Ну что ж, лиха беда начало, — говорит Комаровский, едва закрывается дверь за чемпионом. — Продолжим.
Тучи, перевалившие через Мольку, заполонили небо над городом. В окно ударяет дождь — словно горсть песка сыпанули. Комаровский включает свет, и на ноже вспыхивает зайчик.
Высокий хромой охотник, отставив в сторону клюку, рассматривает нож. Выражение настороженности появляется на его хмуром лице.
— Анданов. На почте работает, — шепчет Дмитрий Иванович, — на медведей ходит в одиночку, мастак! Охотник первоклассный.
Анданова я помню. Тусклое, неподвижное лицо за стеклянной перегородкой. Я бегал туда покупать марки для коллекции.