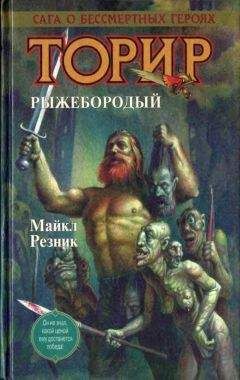Мы залезли в кабину. Она показалась нам очень уютной. Заворчал стартер, и машина тронулась. Потом поехала. Потом понеслась. Кешка, видно, хорошо знал дорогу.
Звездное небо лежало на серебряных сопках. Чужие миры уставились на нас безучастными глазами вечности. Луна за дымкой была чуть видна. В утлую жестяную кабину проникла дикая поэзия сибирской ночи. Шора запел. Кешка понял Шору по-своему.
— В кабине чего не петь, — сказал он и показал на дыру в днище, где малиново светился раскаленный коллектор. — Специально для публики прорубил — греться. Вот денег соберу, приемник поставлю.
Мы спускались с сопки. Машина тяжело прыгала по каменным осыпям. Сквозь гул мотора доносилось кандальное позвякивание цепи заземления. Фары с трудом пробивались сквозь темноту.
— Сейчас и Байкал, — сказал Кешка. — Там, знаешь, горячие ключи. Подо льдом. Главное, правильно съехать. Полынью-то, ее видать по сивому дыму.
— А ночью? — спросил Шора.
— Ночью по нюху ездию.
— Ну, а бывает так, что проваливаются?
Шажда опасности клокотала в Шоре.
— Бывает, — сказал Кеша и рассмеялся. — Шофер всегда выпрыгивает. У шофера, видишь, нерв не спит, а пассажир сонной дури хватит, разомлеет…
— Так что не спи, Шора, — сказал я.
— Капитан сходит последним, — возразил Шора.
Кешка принял это на свой счет.
— А я и не сойду, — сказал он. — Как можно свою шкуру спасти, а чужую загубить?
Он сказал это очень просто. И я впервые почувствовал, что этому непутевому бензовознику можно довериться перед лицом долгой и тревожной ночи.
Машину подбросило, раздался треск. Лучи фар скользили по зеленоватой гладкой поверхности. Белесая паутина трещин покрывала лед. Треск стоял непрерывный. Казалось, бензовоз катит по грецким орехам. Трещины веерами расползались из-под колес.
— Пресный лед, — успокоил нас Кеша. — Играет.
Я не видел колеи. Мы скользили по льду осторожно, как бригантина в шхерах. Этакая пузатая бригантина, наполненная вонючим этилированным топливом. Теперь Кешка стал лоцманом. Он вел свой корабль по звездам. Где-то внизу, за нами, в ледяном аквариуме плыли разбуженные светом рыбы. Рыбы и мы — вот и все живое вокруг, на десятки километров.
Поднялся ветер. Луна куда-то исчезла. Ветер бил в цистерну, как в парус. В кабине похолодало. Лампадный свет приборов мягко ложился на скуластое лицо Кеши. Где-то далеко пронесся тяжелый гул: сдвигались под ветром льды.
— Разговаривает Байкал, — сказал Кешка и толкнул Жору: — Как, душа сосульками обросла, нет?
— Нет, — ответил Жора.
— Вот и ладно.
— Ты здешний, Кеша? — спросил я.
— Здешний. Я еще вот таким, — Кеша оторвал руку от руля, — Малое море объездил. На коньках. А когда в холостом звании был, работал на мэрэсэ, возле Еланцов, и гулял тут с одной, с Ольхона. Она на том, я на этом берегу. Вечерком прикрутишь коньки и чесанешь на Ольхон. Этак пятьдесят километров. А утром на работу. Солнышко на льду встречал — красота! Ездил, считай, две зимы, а потом надоела мне такая история.
— Бросил?
— Ездить бросил. Женился. По сей день удивляюсь, как она меня такого взяла. Она, знаешь, какая? Красивая! Во, торос пошел!
Кеша притормозил, но бензовоз катился вперед, как неловкий конькобежец, не знающий, как остановиться. Впереди заискрились обломки льда. Не дожидаясь, пока скользящая машина ударится в торос, Кеша включил сцепление, и мы вползли на ледяную кашу. Послышался звон. Машина переваливалась с боку на бок. Потом пошел чистый лед.
— Да, удивляюсь, — сказал Кеша. — Из меня какой, можно сказать, красавец мужчина? Уши — как пельмени, о прочем не говорю. А она первая девка на Ольхоне. Может, думаешь, я шофер классный? Не, шофер я зеленый. Начальник сколько раз с меня шкуру спущал. А чего с меня шкуру спущать? Нужна она кому? Другой мою шкуру и за деньги не возымет. Как дурной рейс, тяжелый, так меня назначают. Потому что безотказный. Вот послали меня: надо, мол, срочно привезти бензин. А кто должен был ехать? Егоров. А кто поехал? Кешка… Тьфу, черт!
Резкий удар ветра сорвал ватный чехол с радиатора и теперь играл им, как флагом. Кешка открыл дверцу и выскочил на лед, держась за крыло. Ветер ворвался в кабину и выгнал последние остатки тепла. На зубах захрустел песок. Дула сарма. Мы находились напротив устья реки Сармы, по имени которой и назвали этот не очень-то приятный ветерок. Байкальская природа, любящая эффекты, установила где-то в этом устье хороший вентилятор. Она включала его в самые неподходящие минуты.
И Жора и я слышали кое-что о сарме. Это была самая острая колючка на байкальской розе ветров. Сарма подкрадывается неслышно и одним ударом топит баркас где-нибудь в ста метрах от берега. Петляя по ущелью, она, как наждаком, стачивает скалы и несет рыжую пыль на Ольхон.
Кешка долго боролся с ватным чехлом, заразившимся яростью сармы.
— Ну и ветер, — сказал он, вползая в кабину. — Без ножа не выходи — унесет!
Он нажал стартер, и мотор ответил надсадным кашлем, точно сарма проникла в его железные легкие. Кешка произнес в адрес двигателя несколько великолепных по яркости и своеобразию слов, и двигатель завелся. Колеса вхолостую завертелись на льду. Наконец машина тронулась. Мы проехали еще два или три километра под бешеными ударами ветра. Тьма стала особенно густой, вязкой. Температура воды в двигателе падала. Бригантина выходила из повиновения.
Крепкие руки Кешки впились в штурвал. Лоцман вел корабль вслепую: ни колеи, ни берегов не было видно. Через несколько минут снова сорвало чехол. Кешка, кряхтя, полез из кабины. На этот раз единоборство выиграла сарма. Чехол, затрепетав, как птица, сорвался с мотора и улетел в ночь. Кешка вернулся мрачный и долго утирал нос рукавом.
— Ну и ветер! — сказал он. — Прижимает к машине.
Сарма свистела в стеклах кабины. Кешка снова заработал стартером. Двигатель ответил ласковым ворчанием и затих. Мы не сразу поняли значение этой тишины.
Но Кешка знал, в чем дело. С минуту он прислушивался к потрескиванию остывающего мотора.
— Карбюратор, — сказал Кешка, и это прозвучало как заклинание.
Он посопел немного носом и добавил:
— Поплавок небось прохудился. Говорил я этому Егорову…
И он высказал все, что думал о Егорове. Но легче ему от этого не стало. Нам тоже. Кешка выключил свет, чтобы экономить энергию аккумулятора. Исчезло уютное мерцание приборов. Тьма забралась в кабину и уселась четвертым пассажиром. От такого соседства нам стало очень холодно.
Я попробовал сориентироваться. Где-то по правую руку, в двадцати километрах, был Ольхон. Безлюдный берег — скалы, песок, горбатые сосенки. Слева за полосой льда — сопки, откуда неслась сарма. Под колесами машины за ледяной покрышкой стыла вода.