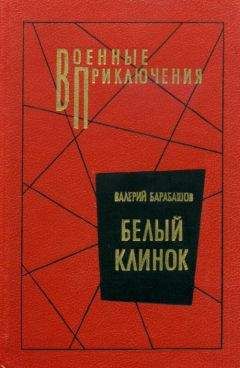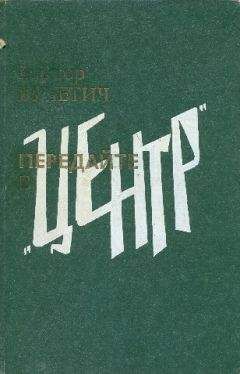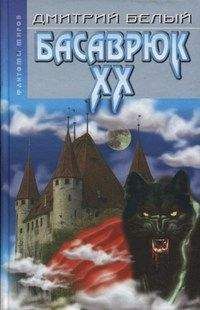3. При занятии какого-либо селения или хутора грабежей, бесчинств и хулиганства не разрешается, вплоть до расстрела и предания суду по законности. Все граждане, не выполняющие служебных обязанностей, будут жестоко караться.
4. Только благодаря всему этому, тесно сомкнув ряды, мы доблестно добьемся заветной цели, уничтожим и даже сотрем с лица земли жестоких паразитов-варваров, и только тогда для себя и своих детей добьемся свободы, а над всей окровавленной коммунистической страной взойдет счастливая заря спокойной гражданской жизни.
Начальник штаба И. НУТРЯКОВ Зав. канцелярией В. ПОПОВ * * *
Подписывать этот приказ Колесников отказался. Объяснил Нутрякову: мол, бумага не военная, а так, больше по организации порядка и дисциплины, ты и подписывай. Нутряков пожал плечами, потоптался в недоумении, стал было говорить, что положено командиру дивизии подписывать все приказы, независимо от их назначения, но Колесников стоял на своем, заорал на начальника штаба, и тот, щелкнув каблуками, выскочил вон.
Мрачный и злой, Колесников расхаживал по большой, чисто вымытой ординарцами горнице штабного дома, поглядывал на часы. До начала заседания штаба, которое он назначил на три часа пополудни, еще было время, большинство из штабных уже пришли, можно было их пригласить сюда, в горницу, но Колесникову не хотелось этого делать. За минувшую неделю столько свалилось на него испытаний, столько пришлось пережить, что пора было хоть на час остановить время, разобраться в событиях и в самом себе.
Шаг за шагом Колесников стал восстанавливать в памяти факты, стараясь ставить их в строгой последовательности.
Получалось, что в Красной Армии он служил без особой охоты, хотя быть командиром ему нравилось. В командирской должности чувствовал он себя… увереннее, что ли. Нет, не те слова. Уверенным он был и в царской армии, в звании унтер-офицера, когда в его подчинении числилось полтора десятка солдат, с которыми он делил окопную жизнь на первой мировой войне. Надеялся тогда, что рано или поздно война кончится, он вернется домой, примет у отца запущенное хозяйство, поднимет его. Что ж, в самом деле, пускать по ветру нажитое?! Как-никак, а они, Колесниковы, считались в Старой Калитве хорошими хозяевами: было у них три коровы, пять лошадей, десятка два овец, куры, гуси… Да и техника имелась: косилка, веялка, единственная на слободу молотилка, швейная машина у матери. Горбом все это и отец его, и дед наживали. Ну бывало, конечно, скупал отец лошадей у каких-то темных людей, с выгодой потом перепродавал их, но кто об этом знал? Сам он, Иван, да разве соседи, Шугайловы. Но те помалкивали: старший Колесников был крут на расправу, не пойман — не вор.
После семнадцатого года отец сдал, часто хворал, в письмах, которые писала Настя, меньшая из сестер, сыновей и прежде всего его, старшего, укорял: мол, кому все это я наживал? Девки — дуры, разметают нажитое по чужим семьям, а тебе, Иван, надо хозяином становиться, возвертайся домой. Но что он мог сделать? После революции гражданская война началась, его мобилизовали в Красную Армию, заставили бить Мамонтова, потом Врангеля. Бил. И его били. В девятнадцатом году серьезно ранили (он тогда взводным был), месяца три долечивался дома. Думал: все, спишут на инвалидность, какой из него воин?! Но плечо зажило, его снова вызвали в полк, воевавший в Крыму. И снова закружилась карусель. В одном из боев, у Перекопа, убило эскадронного командира, Меньшикова. Тут же, под горячую руку, назначили эскадронным его, Колесникова, некого больше было. Не спрашивали: хочет он, не хочет… Воевал эскадронным, понял, что это лучше, чем взводным, тем паче рядовым — больше шансов остаться в живых. Рубка на фронтах была страшная, гибли с обеих сторон не то что эскадронами — полками, и тут уж надо было смотреть в оба, изворачиваться. Приходилось иной раз и ловчить: чего ради соваться лишний раз в самое пекло?! Можно и чуть припоздать, пойти на хитрость.
Понятно, приказ есть приказ, попробуй его не выполни, но в любом деле можно при желании найти лазейку, вывернуться. Отец вон как его сызмальства учил: вперед не суйся, задним топтать себя не давай. Так он и старался. Вперед ему, правда что, соваться совсем резону не было, не за ордена воевал, ждал. Положение на фронтах в том же девятнадцатом было шатким: чья возьмет — еще, как говорится, на воде вилами писано. Большевики, конечно, крепко стояли, насмерть, но и белые поддаваться не хотели. Если бы адмирал Колчак не сдал Урал и Сибирь, неизвестно еще, как дела повернулись. Может, и их верх бы вышел. Интересно, как бы тогда его жизнь пошла? Наверно, вызвали бы в белую контрразведку, спросили: воевал? Воевал, а что с того?! Тыщи, миллионы воевали за красных. Поди, откажись. Враз к стенке поставят. И от командирской должности не мог отказаться — тот же расстрел, в бою не до шуток.
Да-а… Дома, в родной Калитве, и то пригрозили: командуй, иначе… А что — тот же Марко Гончаров и глазом не моргнет. Он, Колесников, для него красный, значит, враг, а с врагом разговор короткий. Будешь разве рассказывать Марку, что все эти годы душой противился большевикам, хоть и служил им, что ближе ему по духу и речам социал-революционеры, уважающие в нем, Колесникове, хозяина, его вековой крестьянский уклад. А скажешь — тоже попрекнут, чего сам к нам не пришел, воду мутил? Командуй, и все дела.
Он бы, пожалуй, и не стал сейчас мучить себя этими мыслями, но как еще дело повернется? Выждать бы надо, повременить. Ведь хотел же именно так — проваландался бы дома месяца три-четыре, а там видно было бы. Повоевал, раненный дважды, помотался по белу свету, хватит. Пускай другие, помоложе… Глядишь, большевики еще и окрепнут, тогда уж хочешь не хочешь — принимай их веру окончательно, живи их жизнью. И служба его в Красной Армии засчиталась бы ему на пользу. Но сейчас большевиками многие недовольны. Антонов поднялся, Фомин и Каменюк по Дону гуляют, махновцы на Украине… Все рядом, все — рукой подать. Придут если к власти, спросят: а что же ты, Иван Колесников, отсиживался за бабьим подолом? Что на это скажешь? Тут ему и припомнят службу в Красной Армии, да так, что чертям тошно станет.
Колесников стал у печи, приложил озябшие отчего-то руки к теплому ее беленому боку, грел ладони. Злость на самого себя кипела в душе. Ведь снова, можно сказать, струсил — припугнули, он и… Но кому нужен командир, использующий данную ему власть без цели и желания, а только из страха?! Какой от него прок?
«Лучше бы они меня шлепнули», — тоскливо подумал Колесников, чувствуя, что нет больше сил ломать голову над проклятыми этими вопросами, что он устал, измаялся душой за долгие годы войны, в тайных своих одиноких раздумьях, в бессильной злобе на людей, которые заставляли и заставляют его делать то, чего ему не хотелось. Он отчетливо понял вдруг, что ему противны и те и другие, и даже более чем противны — ненавистны: большевики за то, что лишили его тихой, пусть и трудной крестьянской жизни, отняли и разорили хозяйство; эти, свои, — за насилие…