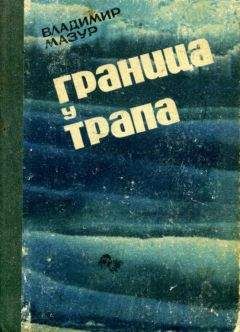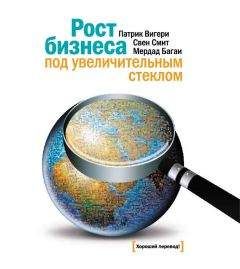Как-то, пребывая в приподнятом расположении духа, в виде монаршей шутки дал Морозову подержать в руках ровно сто тысяч. При этом заглянул в глаза — так смотрит палач в расширяющиеся зрачки жертвы. Каково же было неприятное удивление миллионера, когда увидел, что взгляд начинающего жулика тверд и насмешлив.
Ильяшенко понял — он не одинок. При этом, правда, не знал, радоваться или печалиться. Видел перед собой выскочку, которому все доставалось слишком легко, завидовал, восхищался, сравнивал со своей крутой стезей...
Начинал свой сложный путь обогащения Ильяшенко давно.
Еще в школе воровал в раздевалке шапки, шарфики, чистил карманы. Лишь однажды был уличен в продаже ворованной вещи, но сумел выкрутиться, свалить вину на другого.
В институте, прикрываясь крестьянским происхождением, устроился слесарем в душевые общежития, чтобы сводить концы с концами. Сводил неплохо — все пять лет взимал мзду, отпирая душевые ночью для бескомнатных влюбленных. Тогда-то понял, что деньги можно делать на любой работе. Надо лишь пораскинуть мозгами.
Составив список наиболее «денежных» специальностей, запрятал подальше диплом института культуры, в котором значился клубным режиссером, стал работать дамским парикмахером, потом пробовал силы на бензоколонке, откуда едва не перекочевал в тюрьму, потом — мясником. Был вновь под следствием, отвертелся, потеряв, правда, все накопления.
Озлобился, стал пить, водить в свою трехкомнатную квартиру случайных женщин, которые вечно воровали у него по мелочам, затем, проснувшись однажды в загаженной комнате, решил — хватит. И поступил учеником на ювелирную фабрику, производившую «мечты и грезы» женщин. И мужчин.
Стал активистом, передовиком. Учитывая диплом, администрация вскоре назначила его бригадиром. Потом — мастером. Найдя прореху в делах начальника цеха, сумел устроить так, что того перевели черт знает куда.
На новом месте Ильяшенко поднял показатели и повысил дисциплину. При нем не стало опаздывающих на работу, а крючки на дверцах уборной были на месте. Его ставили в пример другим.
Не дожидаясь, когда все окончательно уверуют в его порядочность, стал действовать.
Зная технологию, как никто из его предшественников, провел первую операцию с чрезвычайной легкостью, что позволило купить «Москвич».
Внешне все оставалось по-прежнему — он витийствовал на собраниях, избирался членом и председателем всевозможных кружков и комиссий, поучал молодых, а в другой, закулисной, жизни был просто вором...
* * *
Если бы разверзлась палуба или клиенты перестали давать чаевые, Морозов удивился бы меньше. Но факт был налицо — Кучерявый не притрагивался к стакану с янтарным «Наполеоном».
— Завязал, — хмуро объяснил Кучерявый, сидя у иллюминатора на ящике консервированных ананасов. — Нельзя — мозги разжижаются...
Ни один, ни другой не обсуждали найденную в прошлом рейсе контрабанду. Более того — встречаясь в столовой или в коридоре, с натянутой улыбкой приветствовали друг друга и поспешно расходились, опасаясь остаться наедине.
И вот после захода в Латакию Кучерявый не выдержал, все же явился для выяснения отношений. Морозов чувствовал — компаньон что-то задумал. Он не стал корить за нарушение конспирации, молча поставил стакан, по пить Кучерявый не стал.
Это было плохим признаком.
Морозов немного побаивался «коллегу», от которого можно было ожидать и резких смен настроения, и приступов ярости. Он объяснял это влиянием алкоголя, дурной наследственности, неудовлетворенности, отгоняя надоедливую и простую мысль, что все кроется в несовершенной системе распределения доходов.
Он тихо радовался, обсчитывая «коллегу» самым бессовестным образом и, успокаивая себя, тут же придумывал оправдание — Кучерявому хватало на жизнь, а на большее он не наработал. Однако при всем этом понимал, что примитивный ум Кучерявого однажды дозреет, и напарник потребует своей доли полностью.
Пока, правда, этого не произошло.
— Что новенького? — бодро спросил он хмурого Кучерявого.
— То золото, на шлюпочной палубе — мое.
— Козе понятно.
— Тут ситуация намечается...
— Ну.
Кучерявый посмотрел на янтарную жидкость, отвернулся.
— Твой таможенник говорил, что все равно сыщут того, кто вез.
— Пугал. Пока ведь не нашли.
— Вот именно — пока. А у меня седых волос прибавилось. Тебе хорошо — у тебя везде свои люди... А я? Мне как быть?
— Сам виноват.
— Вот я и думаю...
— Думать иногда полезно, — поддакнул Морозов. — Было бы о чем.
Кучерявый посмотрел на свои руки, сжал их, шумно вздохнул, немного помолчал.
— Тут такое дело... Я сдуру все свои гроши́ ухнул на то мероприятие.
— Да ну? Так уж и все!
— Ну... Пару тысяч осталось. Но дело в том, что я хочу списываться. Я предупреждал. Устроюсь где-нибудь, пережду годик.
— Твое дело.
— Твое тоже, — с нажимом, зло сказал Кучерявый. — Я тебе о «рацпредложении» рассказал? Рассказал. Ты, я вижу, в этот рейс пустой пошел. Или сам все делаешь? В общем, ты мне должен...
— Да ну? И сколько же?
— Пятнадцать.
— Копеек?
— Тысяч. И брось хихикать!
Морозов расхохотался. Смеялся натужно, невесело, мозг сверлила мысль: схватить бутылку и — вдребезги о голову Кучерявого.
Наконец успокоился.
— Но почему пятнадцать, дружочек? Почему не три, не двадцать семь?
— Я все подсчитал.
Кучерявый вынул из кармана суперплоский миникалькулятор.
— Могу пересчитать в твоем присутствии.
Морозов молчал, обдумывал мучительную казнь Кучерявого.
— Считать?
— А если ничего не дам?
— Дашь!
По спокойному лицу Кучерявого Морозов понял, что у того все продумано основательно. Что делать с этой сволочью? Напоить недомерка, вывести на палубу, за ноги и... Не дастся. Самому на него донести? Ерунда! Купить? Пожалуй. За сколько? Сколько дать, чтоб он больше никогда не вякал?
— На берегу расплатимся, — сухо сказал Морозов. — Я с собой такие деньги не ношу. Расписку напишешь — берешь пятнадцать «кусков» за провоз золотых монет.
— Дулечки! — возмутился Кучерявый. — Ничего не писал и писать не буду.
— Напишешь, дружочек, напишешь. За твою расписку я тебе дам... ровно десять тысяч. В тот же день уедешь.
— Чего? Пят...
— Заткнись! А уедешь...
Морозов сказал, куда. Подальше.
На прощание не подали друг другу руки, не посмотрели в глаза.
Морозов надеялся, что у Кучерявого хватит ума понять — шантаж возможен до определенной суммы. После начинается полоса смерти.
* * *
Ровно через две недели после моего визита к Наташе «Амур» вновь появился в порту.
Белоснежный, с группкой оркестрантов, игравших в желтых рубашках танго на полубаке, он словно возвращался из мира вечного праздника, веселья, беззаботности, где отпуск — круглый год.