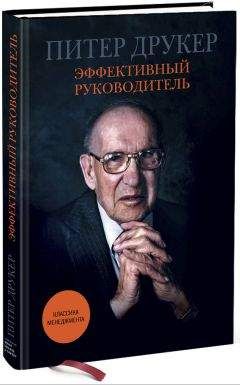Чьи это меха добычей лежат на корме быстрого струга? Откуда у атамана красивая и дорогая бобровая шапка и епанча, тонко расшитая серебряной канителью? Чей кафтанчик подарил Феде Никита Пан?
После казанской ночи простые казачьи лица стали казаться страшными. Кровавый разбой видали их карие и серые глаза и от кого были получены шрамы и раны — одному Господу Богу известно. Шли по Волге ночами.
Днем хоронились по глухим местам, выставляли сторожевые посты, прятались по лесам и под утесами нагорного берега. Всегда были настороже, за кем-то следили, кого-то опасались. Добрые люди никого не боятся. Значит, были казаки людьми недобрыми, и Феде, воспитанному и дома, и у Исакова в почитании государя и повиновении его законам, стало не по себе.
Но когда вошли в Каму, — точно все переменилось. Будто на Каме была какая-то другая власть и эта власть не преследовала казаков, но им помогала.
Поднимались по Каме днем. Каждый день, под вечер, когда за лодкой начинал краснеть закат, а впереди туманная дымка поднималась над рекой и закутывала густые дремучие прикамские леса, — вдруг появлялись на берегу высокие стены небольшого рубленного из бревен городка. В реку вдавалась пристань, и с пристани бодро и весело окликали:
— Ермаковы что ль?
— Эге! — отвечали со струга. — Ермаковы.
Если был поставлен парус — его сбивали, лодка гордым поворотом заходила к пристани. На пристань из городка выбегали ратные люди. Кто во всем уборе, в высокой с наушниками и назатыльником бумажной, стеганной шапке, в стальном, плитками «колонтаре» с «бармицей» на плечах, с лучным саадаком на поясе, кто «на простяка» в холщевой рубахе и портах, с босыми ногами. Русские, немцы, обрусевшие шведы обступали казаков, помогали им причалить и прибрать лодку.
Шли расспросы.
— Наши прошли?
— Давно еще… Вы — последние, — отвечали городские люди.
— Иван Кольцо прошел?
— Когда еще! Зимою… По льду… Санями и на лыжах. Полтораста человек с ним. Матвей Мещеряк в самый ледоход попал. Два стружка затонули. Пяти казаков недосчитались.
— Канкора не узнаете. Чистый город стал. Припасов, бочек с зельем — целые горы навалены…
— Ню, довольна, — говорил немец в колонтаре, — соловей на башню не сажают… Пожалюйте в крепость….
Феде смешно было, как немец сказал вместо «соловья баснями не кормят» — «соловей на башню не сажают».
В городке для казаков была натоплена баня, приготовлен сытный ужин. За ужином — немецкий начальник сторожевого городка, узнав, что Федя из Москвы, обратил на него внимание и приласкал его.
Федя решил его расспросить о казаках, о Ермаке, о Строгановых. Хотелось ему рассеять сомнения, тяготившие его после казанской ночи.
Они сидели на лугу, подле крепостной избы. Кругом возвышались стены, и весь городок был не больше сгоревшей Чашниковской усадьбы в Москве. На лугу лежали казаки, пили брагу, ели ломти пахучего ржаного хлеба, намазанного медом. За городом темнел высокий лес. Молодая луна бледным рогом висела в небе.
Немец — Алоизий Фабрициус, выслушал Федю и сказал, покручивая длинный седой ус:
— Ермак?.. Ню что Ермак!.. Не так страшен черт, как его малютка. Ермак теперь служит у Строгановых. Ну, как я, скажем.
Сидевший недалеко Никита Пан услышал слова немца и ввязался в разговор.
— Никогда, — сказал он, — казаки к Строгановым не нанимались. Врет он — немец!.. Казаки — люди вольные. Они служат только одному государю московскому… Служат по своей доброй воле… Радеют о его землях, чтобы басурманская вера над ними не посмеялась, чтобы государевой вотчины пяди не поступиться! Казак на то и родился, чтобы царю пригодился! Что делает теперь Ермак Тимофеевич, наш донской атаман, у Строгановых, про то я, Федор, не ведаю. Не зря он живет у них больше года, не зря приказал всем казачьим ватагам, что были на Волге, пригрянуть к весне к устью Чусовой. Что он задумал — его атаманская воля. Мы, казаки, когда выбираем атамана, шутим, и дерзкие речи говорим, но, когда выбрали — во всем ему подчиняемся, а кто ослушается — того в куль, да в воду!
— Всяк сверчок полезай на свой песок, — вставил опять Фабрициус.
Никита Пан посмотрел на него и задумчиво и задушевно сказал Феде:
— Ты, браток, в нашем атамане Ермолае Тимофеевиче не сомневайся… Были на Дону атаманы и будут еще, а такого, верь моему казачьему слову, и не было и не будет. Слыхал, может быть, как калики перехожие поют про Владимира Красное Солнышко, про его богатырей: матерого казака Илью Муромца, Добрыню Никитича, да удалого поповского сына Алешу. Вот такой и Ермак! Честный, прямой, умный. Он, браток, под тобой сквозь землю на аршин видит. Он ума палата.
— Да, — сказал Фабрициус, наливая всем в ковши пенной браги, — слыхал и я — рыцарь!
— Да, верное, немец, твое слово — лыцарь!.. Не бойся его![29]
— А как же? — начал было Федя. Он хотел спросить, почему же тогда грозили в Москве Ермаку плетьми и виселицей, и воевода Мурашкин гонялся за ним по Волге? Почему же они, Ермаковы люди, так скрытно, по-воровски, прошмыгнули ночью мимо царской Казани?
Но не посмел спросить. Стальными, немигающими глазами посмотрел на Федю ватажный атаман Никита Пан, точно прочел мысли Федины в них, и твердо и резко сказал:
— А вот так же!
Фабрициус жестко засмеялся и, поднимая чару, сказал:
— Быль для молодца — не укроп.
Еще пять дней поднимались по Каме.
На шестой, после полудня, вдруг точно раздвинулись дикие дремучие кедровые и сосновые леса. Горы, обступавшие Каму, отошли. Зеленые густой, весенней травою луга покрывали мягкие холмы — увалы. Стада коров и овец привольно паслись по ним. И задумчиво и печально позванивали их колокольцы. В тесной балке, ища тени, у каменистого пристена сбился пестрый табун мелких широкогрудых лошадей.
На холме показались толстые, двойные бревенчатый стены, башни по углам, тяжелые ворота, подъемный мост над рвом. Ярко-желтый с черным двуглавым орлом царский прапор весело реял на свежем ветру на высоком шесте над воротами.
Из-за стен крепости видны были крутые, черные, смоленые крыши многих изб и теремов. Весь берег был заставлен легкими стругами. Одни, густо просмоленные, блистали синим блеском, лежа кверху днищами, другие, еще не отделанные, сверкали розово-белыми, чисто оструганными досками. Сотни три людей в пестрых рубахах работали подле них, и гулкий стук многих топоров и визг пил отдавался эхом о холмы и лес противоположного берега.
— Вот он и строгановский городок Канкор, — сказал Никита Пан сидевшему подле него Феде. — Что же, браток, Федор Гаврилович, надумал? С нами, казаками, останешься или к Строганову подашься?