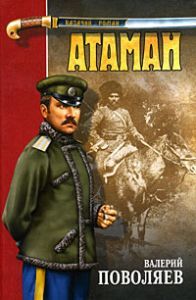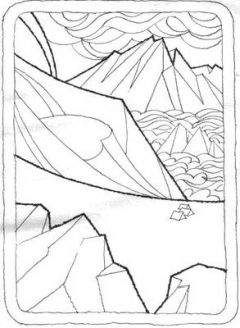живописи и о замке Карлштейн, о кукольной фабрике в Седльчанах и о бабьем лете, — говорили обо всем, что хоть мало-мальски интересовало их.
— Слушайте, Анна, у меня такое впечатление, что я к вам привязываюсь все больше, а? Все больше и больше, — сказал как-то Исаченков.
— Напрасно, — спокойно отозвалась Анна. — У меня дома муж и сын.
...В Прагу въехали утром. Город был каким-то торжественным, парадно ярким; сквозь сметанные сгустки облаков бронзово просвечивал кругляк солнца: хорошо выспавшийся, пышущий инопланетным здоровьем, молодой, он плавал в воздушной сметане, ровно кусок масла, желтый, свеженький, только края малость подгорели, лучились оранжевым. Крыши домов, мокрые от утреннего пота, были броскими, цветастыми, одна ярче другой — тут были и карминные в густую коричневу, и зеркально-серые, и ореховые с сизым налетом, и розовые с примесью нежного белого тона, крыши черепичные и железные, тесовые и из керамических пластин, с высокими горделивыми стояками труб, с большими, нараспашку, похожими на гигантские уши слуховыми окнами, с острыми неустойчивыми ребровинами стесов, крутые и плоские, четырехугольные, как у замков эпохи Ренессанса и острые, почти отвесно сваливающиеся вниз — о пражских крышах можно стихи складывать, песни петь.
А узкие, немного мрачные в своей тесноте улочки еще были темны, они дышали ночью и прохладой, солнце еще не добралось до них.
Прага встретила их возбужденным утренним шумом, сытым бурчаньем застоявшихся машин, шарканьем подошв, дымом — где-то неподалеку сжигали дряхлое деревянное строение, а старый маневренный паровоз, пускающий блеклые полупрозрачные кольца из латаной, похожей одновременно на сапог и воронку трубы, приветствовал «Икарус» поросячьим визгом — паровоз этот толкал перед собой длинную цепочку тележек, груженных песком, чуть ли не к самому центру города.
— Это они, молодые-интересные, метро тут себе строят, песок — это оттуда, — пояснил Гриня Шишкин, нагнав на лоб кожные складки, что придало его лицу многозначительный вид.
Группу разместили в отеле второго класса «Унион», более подходящего отеля для туристов, к сожалению, не нашлось, мест не было — в Праге проводился какой-то очень широкий многотысячный конгресс, он-то и съел все гостиницы, все места.
— Наш «Унион» — не самый плохой отель, — пояснила Анна Исаченкову, — тут, в городе, отели пяти разрядов. Высший — это «люкс», потом идут разряды А, Бе, Це, и еще есть разряд четвертый, самый последний...
После обеда они пошли побродить по Праге. Утренние контрасты света и тени исчезли, воздух попрозрачнел, сделался блестким и шипучим, как газировка, — в нем лопались невидимые пузырьки и источался тихий, немного грустный звон, от которого становилось как-то беззащитно на душе. Они шли молча, и по сосредоточенным лицам их можно было угадать, что им здесь все интересно, все оставляет след в благодарной памяти. И прохожие — уверенные в себе коренные пражане — чувствовали это, приостанавливали шаг, будто удивляясь занятности, деловому любопытству Исаченкова и Анны.
Он осторожно взял ее под руку, прижал к своему боку локоть, покорный, теплый, и чуть не задохнулся от какого-то яростного прилива нежности и тоски, от сложного, неожиданного нового ощущения, охватившего его.
Каменные мостовые мокро блестели от полулетнего-полуосеннего жара, видно, последнего в этом году. Судя по сметанной наволочи, обметавшей небо поутру, скоро зарядят дожди, безысходные, серые, слепые, и тогда уж осень точно станет полноправной хозяйкой в городе. Под ноги шлепались крупные красноватые листья, мягко потрескивали под каблуками, оставались лежать неподвижно, мертво — мятые, давленые, навевающие печаль.
— Куда мы идем? — тихо спросил он.
— Не знаю, — отозвалась она, — может, отправимся в Пражский кремль?
— Почему бы и нет!
Они долго шли тесными уютными улочками, мимо каменных полуподвалов, откуда доносилась едва различимая музыка, нежно и горьковато пахло пивом, копотью и сальным духом хорошо прожаренных шпикачек, потом, миновав низко посаженные гранитные ворота, вышли к мосту, сложенному из старого обелесевшего камня, натужно выгнувшему свою горбину; под горбиной, дробясь о толстые быки, о крепкие, склепанные из дуба ледоломы, несла свои тихие воды Влтава. В прозрачной неглубокой ряби бесшумно плескались крупные непугливые утки, их было у моста, как сизарей на иной московской площади, у того же Манежа например, — несколько сотен. Изредка кто-нибудь с моста кидал в воду хлебную корку или кусок булки, и тогда утки, дружно шлепая лапами по воде и помогая себе крыльями, кидались к этой корке, беззлобно дрались, вырывая еду друг у друга.
— Это знаменитый Карлов мост, — проговорила Анна.
По обе стороны моста, у толстотелых, неровно обструганных парапетов, сидели художники — все, как один, в джинсах, в ярких шотландках, с платками, выглядывающими из распаха рубах, чуть отрешенные, безразличные к толпе гуляющих. Тут же были выставлены холсты с видами Праги — уже в рамах, застекленные, готовые к продаже, около холстов толпился оживленный люд, в основном иностранные туристы, слышалась английская, немецкая, греческая речь, восклицания, щелкали блицы.
— А кремль, он по ту сторону реки, за мостом, — сказала Анна, потянула Исаченкова вперед, — вон, на холме... Да не заглядывайтесь же на эти картины, все равно денег на них не хватит...
— Как в Париже, — пробормотал Исаченков, — все доспехи наружу...
Тихими каменными проулками, вдоль глухих, без выбоин стен, от которых цоканье каблуков отлетало, как горох от металла, — звук действительно горохом ссыпался на мостовую — они поднялись наверх, и то, что увидели, вызвало минутное остолбенение, было слепящим, таинственно притягательным... Целый город лежал внизу, в сизом слоистом пару, который плоскими струями поднимался к облачной навеси, под ногами было много зелени, еще свежей, лишь местами тронутой коричневой осенней прелью, далекие взлобки, похожие на морские волны, с полянами и перелесками, исчезали, растворялись в прозрачной густоте, сливались с небом — зрелище это было захватывающим, ну просто чертовски красивым.
— Вот это да! — незнакомым шепотом произнесла Анна. — Ох, какое диво!
Исаченков улыбнулся и подумал, что слово «диво» могут произносить только женщины.
Потом они пошли в кремль, который здесь называли градом. Пражским градом.
Собор святого Витта, украшенный знакомой по сотням фотографий готической розеткой и химерами, высился строго и мрачно, царапал острыми шпилями небо, и откуда-то с высоты, из небесной глуби, опускались на землю резковатые, гортанные, печальные звуки органа.
— Собор святого Витта считается вершиной готики, — сухо, по-ученому складно и ровно