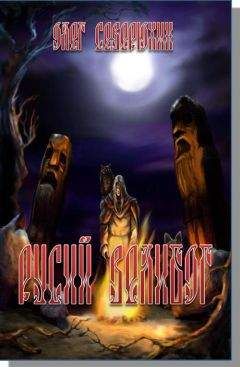— Давай, подключайся, что-то неясное, то ли вирус, то ли еще что-то, но у людей стали окрашиваться ушные раковины. Окрашиваются в красный и синий цвет. У кого-то окрашено одно ухо, у кого-то — оба, на лбу у некоторых мерцает буква «К». Мы сейчас убираем корреспондентов и развозим заболевших по клиникам.
— Товарищ генерал, а нельзя ли нам составить список пострадавших? — спросил я.
— Ты что? — генерал прямо-таки ошпарил взглядом. — Да это такие люди, про которых говорят, что они в любом деле будут вне подозрений.
— Извините, — сказал я, — буду думать, что к чему и что можно предпринять.
— Вот и думай, на то ты и бином, — процедил генерал и ушел.
Его можно бы и понять, потому что по событию и возможным его причинам будут спрашивать с него, да только крайних он будет искать среди своих или среди непричастных. Положение хуже губернаторского.
— Вася, а ты что думаешь по этому феномену? — спросил я ученика.
— А что тут думать? — сказал юноша. — Красное ухо — казнокрад. Синее ухо — взяточник. Буква на лбу — так это традиционное клеймение разбойников.
— Это твоя работа? — шепотом спросил я.
— Да разве это работа? — ответил мальчик. — Это сортировка. У нас клеймение было отменено царем-освободителем Александром Вторым в 1863 году. Тогда было немало клейм. Ставили их на спину и на лопатку. Например, РЗБ — разбойник, ТАТ — вор, В — тоже вор, Л — лжец, З — злодей, И — изменник, Б — бунтовщик. А вот в 1711 году царь, который в Европу окно рубил, всем рекрутам ставил клеймо в виде креста на локоть, чтобы облегчить поимку дезертиров.
То, что я узнал, меня просто оглушило.
— Ну-ка, — сказал я, — говори, что у меня на лице цветное?
— Да ничего у вас цветного нет, Иван Николаевич, — сказал отрок, — давайте купим вон то мороженое с белой шапкой в вафельном стаканчике.
Я посмотрел, и мне самому захотелось мороженого. Купили по стаканчику. Парень знает толк в сладостях. Я ел его и чувствовал, что это именно то мороженое, которое продавалось в ГУМе, в хрустящем стаканчике, пломбир с вареньем и наполнялся не по краям стаканчика, а с горкой. В жизни своей не ел ничего вкуснее гумовского мороженого.
— Что делать-то будем? — спросил я Васю, кусая мороженое.
— А ничего делать не надо, — сказал мальчик. — Приедет человек, покается в прегрешениях своих, запишет их на бумажке и даст слово, что больше так не будет делать, у него все и пройдет. А вот если зло очень большое, то пока не пойдет под суд, отметина не исчезнет, а наоборот станет больше. Вместо уха все лицо станет синим или красным или буквы пойдут по всему телу.
— И что дальше, — спросил я, — покается и больше не будет казнокрадом? Помнится, кое-кто в недавней истории человечества поставил на поток отпущение всех грехов за определенную сумму. Так грешников стало больше, и поступлений в казну служителей Бога тоже больше. И бумажки эти с раскаяниями, индульгенциями назывались.
— Вы еще напомните о суде над представителями одной нефтяной компании, — подхватил Вася, — которая работала себе, богатела от нежданно свалившегося на нее богатства народных недр, и вдруг оказалось, что она прямо пред государевыми очами деньги воровала. Наказали их. Смыли грех наказанием, а перед тем как выпускать на волю, снова решили по тем же делам просудить. Вот это и есть неправосудие. Нельзя по одному делу судить дважды. А тот, кто у нас покается, тот не то, что прощение получит, совесть свою очистит. Суд мирской над ним все равно будет, да только к суду этому придет человек раскаявшийся, награбленное вернет, ордена незаслуженные в казну отдаст, деньги неправедные на благотворительность пустит и дальше работать будет на благо отечества нашего.
Я смотрел на Васю и не узнавал его. Это уже был не мальчик, а рослый юноша семнадцати лет от роду. Три года он со мной изучает науки о естественном и неестественном, одновременно учась по программе общеобразовательной школы и отдыхая в летних лагерях в заветной зоне.
Дневники свои он забросил, потому что на написание дневников нужно время и усидчивость, а при такой нагрузке как у него, на дневники времени не хватает, да и я особо не допытывался, чему он учится у старцев своих. Время придет, сам расскажет. Похвались заранее, а вдруг чего-то не получится?
Рассуждения у Василия совсем не такие, как у нас, повидавших жизнь. Молодое, наивное, с верой в людей, в добрые намерения, в светлое будущее. А разве мы не были такими? Нам казалось, что взрослая жизнь это пора свершений, движения вперед, развития, изобретений и открытий, которые улучшат нашу жизнь. И учили-то нас тоже волшебники, написавшие нам «Авиамарш»:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.
Но нам никто не говорил, что музыку к маршу написал Юлий Хайт, а слова Павел Герман. Мы думали, что это народная песня. А оказалось, что вокруг нас живет множество таких же людей, которые стремятся к тому же светлому будущему. И есть такое же множество людей, которые стоят на пути в это светлое будущее. Они регулируют поступательное движение вперед, как капитаны корабля, которые следят за тем, чтобы балласт был на месте, обеспечивая остойчивость корабля, и весь груз был равномерно уложен в трюмах и на верхней палубе, не нарушая равновесия.
Что будет, если все вдруг ринутся в светлое будущее? Правильно. Если груз сдвинется к одному борту, то корабль перевернется. То есть всем в светлое будущее нельзя. Вернее, можно, но только осторожно и не семимильными шагами, как предлагали отцы пятилеток и семилеток.
И поэтому вся наша жизнь была полна радужных надежд и разочарований. Нам было нельзя то, что было можно всем. Зато на нас ставили эксперименты, изучали поведение и разрабатывали теории управления массами в условиях полного и окончательного построения социалистического общества и создания новой исторической общности — советский народ.
Куда это все делось? Улетело, потому что это были придумки тех, кто любой ценой хотел удержаться у власти, понимая, что следующее поколение советских людей не поверит в то, что черный хлеб с солью это есть наша национальная праздничная еда.
Как начинаешь читать сказки, так сразу слюной начинаешь захлебываться. В те времена, которые называют «дикими», народ наш был образован, веру имел и жил зажиточно для своего времени, плодясь для своего процветания. Вот ведь, думал о современности, а мыслями ушел в далекое прошлое.
— А как же с тайной исповеди, Василий? — спросил я. — Если человек напишет нам покаянное письмо, то мы же не должны сообщать государству об этом. Это нечестно. Время партсобраний и принародного психологического линчевания прошли. Хотя линчеватели остались и хотели бы снова вернуться в те же времена.