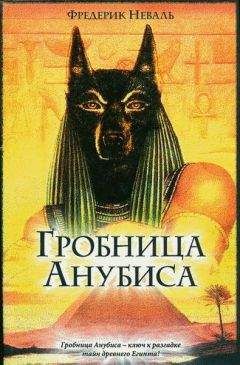К телефону подошел слуга. Я не колеблясь перечислил все громкие титулы, коими мог себя наделить, и меня тотчас соединили с личным телефоном хозяина дома.
Как и предполагал святой отец, человеку с хриплым, чуть надменным голосом мое имя, а особенно имя моего отца было известно (после того как мой родитель прекратил преподавать, он послушно принимал приглашения на радиопередачи во всех странах, где работал). Хозяин виллы нисколько не возражал против нашего визита, напротив, он был бы рад показать нам свою коллекцию.
— На обед? Сегодня вечером?
Гиацинт одобрительно кивнул.
— Извините меня, профессор Лафет, что я уж так сразу с места в карьер. Может, завтра вам подошло бы…
— Нет-нет. Сегодня меня вполне устроит. Ни мой коллега, ни я не планировали ничего особенного.
— Великолепно. Тогда, скажем, в девять?
— В девять? Идет.
Он подробно описал, как его найти, и едва я закончил записывать маршрут, как Гиацинт уже отправился за машиной, заказанной еще утром.
А в запасе у нас оставалось еще добрых два часа.
Я надел строгую черную тенниску, брюки из небеленого льна, собрал волосы в хвостик и критически оценил все это, взглянув в зеркало. Чем гуще лежал загар, тем явственнее проступал длинный шрам, пересекавший мое лицо. Хотя лучшие представительницы слабого пола и находили, что это лишь подчеркивает мужественность, я бы с удовольствием обошелся без подобного украшения.
— А что вы наденете для коктейля? Достанете целлофановый пакетик, а из него спецовку? — усмехнулся Гиацинт, в галстуке и безупречном костюме от какого-то итальянского дизайнера.
— Все это печально, но ничего лучшего из одежды у меня под рукой нет.
Он посмотрел на мои брюки и ехидно спросил:
— Вы никогда не носите нижнее белье? — А когда я метнул в него уничтожающий взгляд, скромно заметил: — Дорогой друг, позвольте обратить ваше внимание на то, что мое поведение с тех пор, как мы с вами делим одну комнату на двоих, безукоризненно.
— В противном случае мы бы комнаты не делили, «дорогой друг». — (Вместо ответа он закурил и посмотрел на часы.) — Кстати, я не высказал вам своего восхищения за сольное выступление нынче утром. (Он вопросительно поднял бровь.) — Я про водопад словес в часовне относительно религиозного искусства.
— Ну…
— Где вы всему этому выучились?
— У иезуитов. — Заметив нескрываемое удивление, изобразившееся у меня на лице, пояснил: — Они были свирепее любого бульдога, но марку держали.
Мы вышли из комнаты и спокойно спустились в холл.
— А как вы оказались у Гелиоса?
— Вы задаете слишком много вопросов, профессор.
— Вам все известно обо мне, а мне — ничего о вас. При таких условиях вполне естественно проявлять некоторое любопытство, не так ли?
— Осторожнее, так можно и влюбиться.
Он уселся за руль маленького белого «фиата», который нам удалось нанять, я занял место рядом с ним, раздраженно хлопнув дверцей. В какой по счету раз он избегал личных вопросов с помощью какого-нибудь словесного пируэта.
— Поедем к центру острова, — велел я.
Мы проехали вдоль западного берега Хиоса, пересекли деревеньку Писпилунту, где высился старый замок Тамарку, и направились дальше по дороге, проложенной среди густых зарослей. Спрятавшись среди деревьев, там притаились селения Курунья и Ненитурья, а напоследок машина начала карабкаться вверх по горе мимо заросших цветами домиков и византийских церквушек.
Мы объехали более крупное селение Волиссос, самое значительное на севере острова.
— Разве не здесь жил Гомер? — спросил Гиацинт, указывая на щит у дороги.
— Такое здесь частенько приходится слышать. Даже имеется домик, который выдают за его жилище.
— И что вы об этом думаете?
— Судите сами. Жители Волиссоса рассказывают, что замок здесь построил византийский военачальник Велизарий и некоторое время даже жил в нем, когда ослеп. Почему бы не предположить, что здесь гостил и Дарий, если кому-то это угодно? А теперь прямо, — подсказал я, когда машина подъехала к развилке.
Мы оказались поблизости от самой высокой горы Хиоса, называвшейся Пелинеон и достигавшей почти тысячи трехсот метров высоты.
— Вы же не прикажете мне лезть на самый верх?
— Нет. То, что нам нужно, чуть левее.
Древнее величественное Моундонское аббатство ныне лишилось монастыря, носившего то же название. Вместо него перед нами высилась вилла, сложенная из тесаного камня, причем благородные остатки старинной постройки уже не умеряли кричащей модерновости новодела, хотя бросалось в глаза, что строители приложили немало усилий, тщась придать ему как можно более древний вид.
Теперешним гостям приходилось маневрировать под инквизиторским надзором телекамеры и подгонять машину к большим входным воротам, над которыми мигала лампочка сигнала тревоги, готового всполошиться по первому неосторожному движению.
Вилла была настоящей крепостью.
Мы даже не успели нажать на кнопку переговорного устройства, как слуга, явно предупрежденный о нашем появлении камерами слежения, а теперь с широкой улыбкой стоявший на лужайке у ворот, проговорил, отвесив нам поклон:
— Добро пожаловать, профессор. Принимать вас большая честь. Прошу вас. — И посторонился, освобождая нам дорогу. Мы вступили в большой холл и растерянно переглянулись. Если представленная нам декорация соответствовала натуре хозяина здешних мест, вечер обещал надолго остаться у нас в памяти. Кто это утверждал, что ирландцы славятся строгостью во внешнем убранстве?
Никогда я еще не видел такого разгула кричащих красок и разлива дурновкусия, даже в комнате братца, а это сильное сравнение. Слишком обильная позолота на всем, чересчур тесно стоят мраморные статуи и впритык висят полотна мастеров, затеняя друг друга.
— Господин О'Коннор ожидает вас в своем кабинете, — возвестил слуга. — Извольте следовать за мной.
Что мы и сделали не без колебаний, клацая каблуками ботинок по мраморному полу, загроможденному всякими ужасами в более или менее искусном исполнении.
Если холл и коридор являли собой наивысшие образцы уродливого безвкусия, то рабочий кабинет получил бы на любом конкурсе приз за эксцентричность: с полом из каррарского мрамора, стенами, затянутыми алым бархатом, и потолком в каких-то аляповатых позолоченных завитушках. Сам О'Коннор, сидя верхом на стуле и вцепившись зубами в его спинку, увидев нас, оторвался от спинки, уперся локтями в край массивного секретера черного дерева и заулыбался с видом чуть-чуть самодовольным, совершенно не сознавая, какое сокрушительное впечатление его покои могут произвести на гостя. Верхом пошлости выглядели и инкрустации слоновой кости и ляпис-лазури, коими он выложил, непоправимо испортив, бесценную поверхность своего секретера. Если прибавить к этому диван, крытый зеленым дамастом, и другую мебель, хоть и старинную, но явно купленную по случаю, можно было легко догадаться, что, с точки зрения Доналда О'Коннора, наилучшее впечатление могла произвести только наибольшая цена.