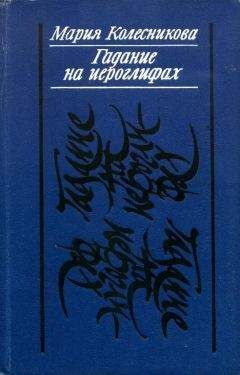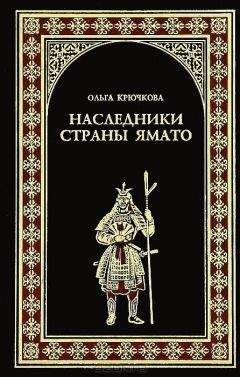— Выбирай все, что тебе нравится, — сказала я Эйко.
Она рассмеялась:
— У меня длинные прямые ноги, зачем их прятать в кимоно?
Так ничего и не взяла.
Японское жилище не загромождается вещами, и дом туза не являлся исключением. Здесь конечно же оставляли обувь за порогом и по комнатам ходили в носках. Наверное, и туз сидел в белых, с выделенным большим пальцем матерчатых носочках на циновках, попивал чаек, сакэ и закусывал обсахаренной рыбой. Он сидел на корточках в своем широком, как сутана, черном кимоно, поглядывал на свой самурайский меч, лежащий на алтаре, или же, лениво позевывая, наблюдал за игрой рыбок в аквариуме, угрюмо любовался картиной — свитком в нише, изящной вазой с корявой веткой сливы. Дома он редко с кем разговаривал, боясь уронить мужское достоинство, и в сеги — японские шахматы — играл сам с собой.
Он бежал из Чанчуня без оглядки, побросав святыни Аматэрасу — бронзовое зеркало, изогнутую пластину из нефрита и меч особой закалки. Портрет Хирохито сорвался с какого-то гвоздя и висел вверх ногами. Мы не стали снимать — пусть себе висит!
Ах, самурайский меч! Вот он лежит передо мной, иногда им Эйко рубит мясо. У нее это ловко получается. Хозяин побросал святыни, предал их, и они потеряли свою святость. И алтарь предков, и алтарь Аматэрасу — все выглядело сиротливо; их святость была попрана трусостью. Взмахами меча разрубая бараньи кости, Эйко, словно эрудированный экскурсовод, неторопливо рассказывала, откуда берутся самурайские мечи.
У каждого почтенного японца, если он из рода самураев, у которого в доме есть и радио и телефон, который ездит на автомобилях и играет на бирже, есть священный меч и белое кимоно с гербом рода. Изготовление самурайских мечей до сих пор сопровождается старинными обрядами. Их кует ограниченное число всеми почитаемых ремесленников-тоджиси, которые работают строго в согласии с традициями многих веков. Мечи обоюдоострые и режут легче самой острой бритвы. Их делают из стали, закаленной способом, неизвестным европейцам и тщательно сохраняемым в тайне мастерами. В то время, когда куется добела накаленный меч, помощники мастера поют песню, в которой восхваляется доблесть древних героев Страны восходящего солнца. Выкованный меч покрывают смесью золы, растительных соков, благовоний и крови самого самурая. После специальной церемонии отец вручает меч своему сыну — меч становится его святыней. Потеря меча считается величайшим позором даже сейчас; человек, потерявший меч, обязан совершить над собой харакири. Наш меч был, судя по всему, старинный, украшенный красивыми рисунками, вероятно, эпохи Ашикага. Ножны простые, без инкрустации, а это первый признак эпохи. Чем драгоценнее было оружие, тем скромнее ножны: прекрасный символ безукоризненного воина, который культивировал свою душу, но презирал тело — ничтожную оболочку души. Мечи служили не только для битв, но и для дуэлей. Прежде чем вступить в бой, самурай душил свое оружие и шлем амброй. Срубив противнику голову, он клал ее в свой шлем, как в корзину, и запах амбры заглушал запах крови. Сколько красивой ритуальности — и все в конечном итоге лишь для того, чтобы сдать самурайский меч сержанту Иванову. Я видела горы сданных японских мечей, кучи японских орденов и медалей.
Наш самурай, по всей видимости, небрежно относился к оружию: его меч был туповат и годился разве что для разделки баранины.
Висит в шкафу и белое кимоно с гербами рода его владельца. Наверное, он никогда его не надевал. Белое кимоно обычно надевают перед смертью, когда хотят совершить харакири. Дикая романтика предков, должно быть, не привлекала нашего туза. Век бусидо кончился.
— У богатых самураев, — продолжала свой рассказ Эйко, — существовала даже специальная комната, где стояло чучело предка в роскошных доспехах, его окуривали благовониями. Косаку всегда сердился и говорил, что чучелу его начальника, генерала Ёсимура, живется просторнее, чем нам.
В особняке остались альбомы с открытками и фотографиями. Открытки прославляли красоты Японии, знаменитых гейш и борцов.
Так проводили мы досуг, перетряхивая альбомчики-открыточки и перемывая кости сбежавшим хозяевам особняка.
При всей обнаженности своего отношения к жизни Эйко была чуткой, поэтичной натурой. Разбиралась в японском искусстве, почитая Огата Корина за его «36 прославленных поэтов» и за то, что он создал для жены правительственного чиновника Курано-сукэ изысканный костюм, состоявший из двойного черного кимоно с черным широким поясом-оби и белоснежным нижним кимоно, выглядывающим из ворота и внизу у ног. Оказывается, в те далекие времена костюм завоевал пальму первенства на конкурсе мод. Кому-нибудь подобные сведения были бы просто ни к чему, а я через Эйко вживалась в прошлое Японии.
Эйко хорошо знала хайку — стихи классиков и романы эпохи Мейдзи.
Неужели когда-то
Эти цветущие склоны
Видали битвы?
Осенняя луна.
Замерзли в ее сиянии
Крылья стрекозы.
Сидя прямо на полу, на собственных пятках, Эйко приятным негромким голосом читала нараспев что-то очень старинное, хрестоматийно знакомое.
В наш серый замороженный особняк влетели синие стрекозы, «скользящие над озерной гладью в закатном солнце», «бабочки в цветах»; текли и текли стихи, словно сотканные из летящего снега:
Как будто там кто-то стоит,
Рассыпая жемчужные перлы…
И беспрерывно летят все они,
Рукав же мой узок…
Она оказалась искусной художницей. Учила меня рисовать, и я удивлялась, как непринужденно, словно бы без всяких усилий, Эйко взмахами кисти изображала пышно распустившиеся розовые цветы лотоса и сочные зеленые листья. Она умела рисовать сырые ветки, тростник, засыпанный снегом, тонконогих птиц.
Иногда Эйко приносила сямисэн — струнный инструмент и пела островные песни, очень протяжные и печальные. В них билась тоска по несбыточному:
Чем было бы возможно
Непоправимое исправить?!
Быть может, лишь одним — слезами!
Вольно или невольно, до знакомства с Эйко-сан, я воспринимала Японию не столько по сухим справочникам и даже не по рассказам революционных писателей — Кобаяси, Катаока, Хаяси, Фудзимори, сколько по смягченным экзотикой путевым запискам туристов и романам Пьера Лоти, хотя и догадывалась, что поддаюсь сладостному обману, идеализируя грубую, конкретную жизнь. Я воспринимала все через некие пласты красочной культуры: золотые и серебряные павильоны; величественные белые феодальные замки, словно стремящиеся улететь в небо на своих крылатых крышах; представления бугаку в страшных раскрашенных деревянных масках, на берегу океана, перед воротами тории; живопись в жанре сандзуйга, что значит «горы — вода»; картины Хиросигэ, Утамаро, великого Хокусая… Жизнь меняется, а культура лишь обрастает новыми слоями — она как кольца дерева на сердцевине народной души. Меня всегда поражали высокий художественный вкус, самобытность и тонкость японской культуры.