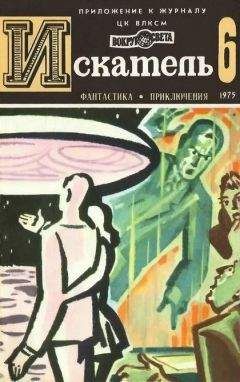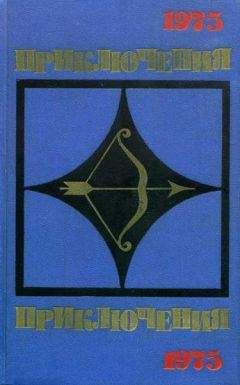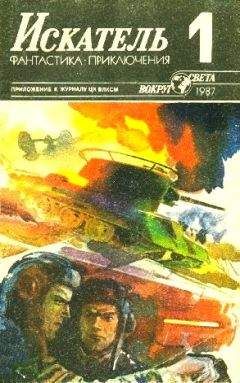В полдень, когда до приезда Гриши оставались считанные часы, Николай Ильич вдруг понял, что Гриша не отступит от задуманного. Он вспоминал долгие годы своего знакомства с ним, мелкие, на первый взгляд ничего не значащие случаи из их житухи в колонии, всю их последующую вольную жизнь, и чувство беззащитности перед Мокригиным охватило все его существо. Нет, Гриша никогда не отступался от задуманного. Что-то в нем было такое, что заставляло людей подчиняться ему. Николай Ильич считал, что только ему повезло на дружбу с этим суровым, может быть, даже жестоким человеком, но сейчас ему показалось, что и его дружба с Мокригиным была лишь цепочкой уступок, незаметного для себя подчинения его воле, его желаниям. Он опять вспомнил историю с собакой, и ему стало страшно оттого, что не послушался Гришу, поступил, может быть, в первый раз по-своему. Да ведь как иначе-то поступить?! Сын же, сын родной отыскался!
…Зотов посмотрел на часы. Половина третьего. Мокригин приедет трехчасовым поездом. Он всегда был верен своему слову. Около пяти Гриша должен быть здесь.
Зотов надел телогрейку, вышел в сарай. Там, в ловко выдолбленном трухлявом бревне, Николай Ильич прятал старенький трофейный карабин, купленный по случаю несколько лет тому назад у одного заезжего мужика. Он даже и не купил его, а поменял на десяток добрых бревен. Изредка, лишь в самых крайних случаях, он доставал карабин, чтобы завалить лося. Да и то когда был уверен, что егерь в отъезде. Вот только с патронами последнее время было плохо. Негде достать. Николай Ильич проверил обойму. «Нет, Гриша, не за тобой последнее слово!» — зло прошептал старик, заталкивая обойму в магазин.
Начинался снегопад. Низкие белесые тучи медленно разворачивались над лесом, а за ними темнели другие. На небе не было видно ни одного просвета. Холодный ветер пронизывал насквозь, и Николай Ильич почувствовал, что его начинает бить мелкая дрожь. Он прибавил шагу, но лыжи утопали глубоко, и идти было трудно. Зато он скоро согрелся. Зотов не задумывался сейчас о том, что будет. Ему казалось: устрани он Мокригина — и все образуется. И не жаль ему Мокригина, совсем не жаль. И хорошо, что снег пошел. Небось к ночи столько нападает, что никаких следов не останется.
Зотов шел и шел, останавливаясь передохнуть, и минута от минуты росла в нем злость на Мокригина, из-за которого приходится вот тащиться по глубокому снегу, вместо того чтобы ждать письма от сына, сидя в тепло натопленном доме.
«Ну ничего, Собашник, потружусь на тебя в последний раз. Уважу, — вскипая, думал Зотов. — Сполна рассчитаюсь за все твои заботы. Пиши потом к прокурору донос на старого Зотова, сажай его в тюрьму за то, что с сыном видеться захотел. Накось выкуси! Ты мне к сыну дорогу не загородишь!»
Когда Николай Ильич взобрался на невысокую горку, которую почему-то все называли Орельей Гривой, он обрадовался. Впереди, шагах в пятистах, чуть заметной серой полоской выбегала из лесу тропинка, ведущая со станции во Владычкино. Ходили по ней редко. Да и кому ходить-то?
Зотов стал за маленькой елкой, осторожно отвел затвор, загнав патрон в патронник. Он был уверен в себе — стрелял всегда без промаха. А там пусть думают-гадают. Мало ли в лесу охотников. Пуля — дура.
Николай Ильич почувствовал, сердцем почувствовал, что Гриша Собашник сейчас появится из бора. Перехватило дыхание и чуть дрогнула рука, когда он поднял карабин примериться. Но Николай Ильич справился с охватившим его ознобом, глубоко вздохнул, на мгновение почувствовав, как заколотилось сердце, и тут же увидел Гришу, его мохнатую рыжую шапку. Еловый подрост почти скрывал Мокригина. Зотов видел только голову да успел разглядеть. Вещевой мешок за спиной. «Небось продуктов несет своему дружку Коле», — мелькнула злорадная мысль, и он нажал на курок…
Ветер усилился, посвистывал зло и тонко, гнал навстречу поземку. «Несподручно мне по лесу с карабином таскаться», — думал Зотов, оглядываясь по сторонам. Но вокруг было пустынно и неприютно. В сумерках лес выглядел тревожным и незнакомым, и казалось, что там кто-то прячется и следит за каждым шагом. Он пришел домой в потемках, совсем обессиленный. Спрятал карабин. Но на душе у него было спокойно. Словно стрелял не сам он, Зотов, а кто-то другой. Какой-то мало знакомый ему человек понял его страдания и горе и сжалился над стариком, освободив от стыда за подленькое рабство в прошлом и от страха за будущее, открыл ему дорогу к сыну. И он, спаситель, и грех на душу взял. Впервые за несколько дней Николай Ильич хорошо спал. На следующее утро он снова зашел в Пехенец на почту, письма опять не было, и Николай Ильич, дождавшись попутки, отправился на Мшинскую, на электричку. О Грише он и не вспоминал, только, проезжая Гатчину, кольнуло ему сердце тревогой. Но он успокоил себя. Вот и в Пехенце никто ничего пока не знает. Видать, не наткнулись на Гришу — где-где, а на почте-то уж наверняка знали бы.
…Тельмана дома не оказалось. Сколько ни звонил Николай Ильич, за дверью было тихо. Зотов медленно побрел прочь, решив где-нибудь наскоро перекусить и зайти попозже. «В крайнем случае с последней электричкой уеду, — подумал он. — К ночи-то вернется сын. Мало ли какие дела. На службе задержался».
Зотов долго ходил по городу, останавливаясь у красивых витрин магазинов. Он нарочно оттягивал время, чтобы прийти уж наверняка, обязательно застать сына. На Неве, у Петропавловской крепости, Николай Ильич приметил художника с мольбертом и долго стоял поодаль, разглядывая, чего он там рисует. Город был затянут сырым, противным туманом, и на холсте у художника слоился туман, а в просветах намечались зыбкие контуры Зимнего дворца. Зотов стоял молча, затаив дыхание. Он с какой-то затаенной гордостью думал: «Вот и мой Тельман художник, и так же, наверное, стоит где-нибудь, рисует, а люди почтительно рассматривают его картины. И наверное, Тельман хороший художник, коль пропечатали его картины в журнале да еще написали такие теплые слова».
Он пришел к квартире сына около десяти часов. И опять долго звонил, но опять никто не отзывался. Из квартиры напротив высунулся какой-то всклокоченный старик и подозрительно поглядел на Николая Ильича. Зотов хотел спросить старика, не знает ли тот, где его сын, но не успел — старик быстро захлопнул дверь и долго гремел запорами. Николай Ильич сел на ступеньки. Ему стало остро жаль себя, жаль, что не сбылась его надежда увидеть сегодня сына. Надо было еще ждать, ехать к себе на кордон и опять волноваться в ожидании следующего дня. Николай Ильич устал, ему даже двигаться не хотелось. «Вот если бы в Гатчине остановиться, как прежде», — мелькнула у него мысль, и он вздрогнул, представив себе Гришу Мокригина с простреленной головой.