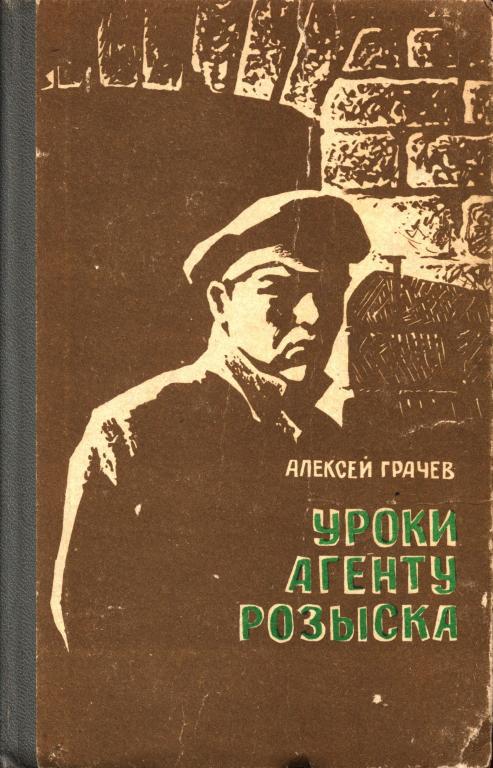с винтовкой в руке, стоявшая в длинном ряду парней, одетых тоже в солдатские шинели и папахи. Прочитал подпись — корявые буквы. Это был отряд, еще весной уехавший воевать против Колчака.
«Мы на Колчака уехали, а ты, здоровый парень, чем занимаешься?» — как бы говорили глаза девушки.
Пошел дальше, стараясь быть незамеченным, прячась за прохожих. Так миновали они Толкучий рынок, потом перешли площадь рядом с розыском и вышли на главную улицу города. И здесь Сеземов не задержал шаг ни на минуту. Все только помахивал рукой да подергивал резко ремешок мешка за плечом. Какая-то девушка налетела на него. Он улыбнулся ей, приподнял даже фуражку и снова оттопырил околышком свои непокорные уши. Дойдя до трактира «Орел», посмотрел на окна, стал неторопливо переходить улицу по направлению к гостинице «Царьград», оглядывая при этом внимательно пустую пролетку, приткнувшуюся к углу здания. Костя решил, что этот санитар запасного полка обязательно пойдет сюда, в гостиницу. Он представил, как сейчас, тихо скрипнув, откроются тяжелые дубовые двери с медными ручками, с ярко поблескивающими стеклами. Потом запыленные сапоги зашаркают по мраморным ступеням. Он поднимется на второй этаж, постучит в дверь, выкрашенную белой краской. Дверь откроется и высокая женщина с напудренной шеей воскликнет: «А я думала, не разбойники ли это?».
Но Сеземов даже не посмотрел на гостиницу. Он вошел под темную арку крепостной стены, разделяющую одну часть города от другой, а на бульваре остановился в толпе, окружившей высокую деревянную эстраду. С эстрады уставилось в небо жерло граммофона. Летел четко произносящий слова голос над тополями, над крышами, над головами людей, идущих по аллее: «Наша революция»… «Мы должны»… «Все силы»…
И снова Сеземов зашагал, теперь к Волге.
Остались позади два купеческих дома, похожие один на другой — из белого известняка, с маленькими монастырскими окошками, с острой крышей, выложенной черепицей, с расписными воротами. Сняв фуражку перед крыльцом церкви, Сеземов вытер лицо ладонью и свернул во двор. Костя прибавил шаг. Влетел во двор и остановился в растерянности: прямо в грудь смотрело дуло револьвера и глаза Сеземова, сощуренные злобно.
— Ну-ка, повернись кругом, — негромко приказал он, оглядываясь на пустынный закоулок. — Ну, — уже закричал он нетерпеливо, и револьвер подскочил, как будто ударил кто по руке.
Костя повернулся и услышал быстрые шаги. Что-то упало в карман. Дуло револьвера больно ткнуло в левую лопатку.
— Я положил тебе в карман одну вещицу, — услышал голос Сеземова. — Подумаешь потом, где бы ей быть за твое свинячье любопытство. А сейчас живо убирайся на улицу… Ну!..
Костя все в такой же странной растерянности вышел за ворота. Оцепенело смотрел на широкую гладь реки, на лодки, на женщин-платомоек, на тот берег в дымке, на облака, низко плывущие над башнями церквей. Сунул руку в карман, нащупал что-то, вынул — и увидел на ладони поблескивающую ярко пулю.
В розыск он направился, не заходя домой. С мешком на плече, усталый, запыленный, расстроенный поднялся по лестнице. На верхней площадке остановился, прислушиваясь к голосам, слышным из-за двери, обитой войлоком. Кричал, похоже, Ваня Грахов:
— В воскресенье видел их обоих. На велосипедах с комсомольцами ехали. С флагами, с песнями, охапки цветов. Позавидовал даже…
Появилась в коридоре Шура Разузина. С заплаканным лицом пробежала мимо и, ойкнув, обернулась:
— Пахомов, ты слышал, что у нас тут вчера было?
Когда Костя, задержав шаг, покачал головой, вернулась к нему, переложив пачку серой бумаги из одной руки в другую.
— Горе-то у нас, Костя, какое, — сказала тихо и вымахнула из кармана сиреневой юбки платочек. — Вчера вот здесь, на лестнице, Шахова с Глебовым застрелил Артемьев. Сижу я в канцелярии у журналистки, как вдруг — «бах» и еще «бах». Выскочила на площадку, а этот и в меня целит из нагана. Такой бритый мужчина в гимнастерке, пиджаке, лоб узкий, сам тощий, узкоплечий. Опять «бах» — только жигнуло над ухом. Вон стену как ковырнуло, целый кусище выхватило. Я так и села. А те двое вниз по лестнице. Выбежал Иван Дмитриевич, Грахов с Канариным. Да уж поздно. Лежат на ступеньках Вася с Сергеем, встать не могут. И я себя не чую — в глазах темно, в ушах звон, даже затошнило. Чистый обморок…
Губы у нее задрожали, не выдержала, заревела в голос и запрыгала по ступенькам. Он привалился спиной к стене. Холодная и сырая, она легла ему на плечи плитой, придавила. Даже выронил мешок к ногам, глотнул судорожно прокуренного воздуха. Как же это так? Шахов и Глебов. Вспомнился первый день в угрозыске, белокурый Шахов, записывающий показания старика, у которого какой-то Зюга украл деньги, кудрявого Глебова, улыбающегося Семену Карповичу, по-приятельски… А то вот они оба сидят на летучке в кабинете Ярова возле этажерки, заваленной бумагами, газетами. Глебов крутит головой нетерпеливо, подымает руку, вскакивает, одергивая гимнастерку, напоминая этим самого Ярова. Стал говорить насчет комсомольской ячейки при уголовной милиции. Это чтобы среди агентов розыска были свои комсомольцы. А Шахов сидел, скрестив руки на груди, позевывая, закрывая глаза то и дело, потому что ночь накануне продежурил на пристани.
Из-за двери опять донесся голос, теперь звонко спрашивал кого-то Карасев.
— Никак только не пойму — почему Коля стрелял здесь, в милиции, а не на улице. Там же легче было удрать?
Кто-то незнакомым голосом ответил:
— Потому что под дулом шли они сюда, наверное. Не удалось никак выхватить наган. А здесь ребята сплоховали, поубирали, видно, свои револьверы в карманы. Вот те и воспользовались.
И все же не верил Костя. Казалось, что снится ему, возле двери кабинета Ярова подумал с долей облегчения:
«Сейчас все пояснит начальник. Мол, выдумка это в отношении Шахова с Глебовым».
Яров стоял у окна, опустив плечи, сгорбившись по-стариковски. Гимнастерка на спине вздулась пузырем из-под ремня. Ветер трепал жидкие льняные волосы на лбу. Он выслушал сбивчивый рассказ Кости обо всем, что случилось с ним, и, ни слова не говоря, толкнул окно рукой. Поплыли из-за высоких белых стен, отделяющих Мытный двор от улицы, стройные и грустные слова революционного гимна:
«Вы жертвою пали в борьбе роковой»…
Яров слушал, покашливая глухо. Изредка переминался с ноги на ногу и слабо поскрипывал под ним паркетный пол кабинета. Не двинулся, когда кончилось пение и стал ясно слышен привычный шум городского квартала: скрип колес, шарканье ног, свистки, крики мальчишек.
— Значит, уволить тебя, — заговорил, не оглядываясь. — Не годишься в агенты. Ну-ну… Все так говорят. И я вот так же говорил в Губкоме партии однажды весной. Знаешь, что