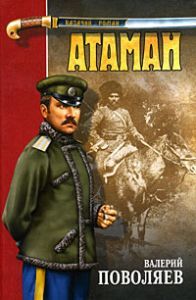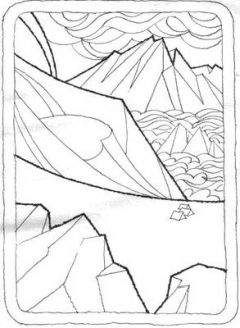прислушался к самому себе: не проснется ли тревожный позыв, что сопутствует последнему часу? Тогда на думы уже не останется времени. Тогда надо будет действовать. А впрочем, что он сможет сделать, если отца окончательно сразит старость?
Где-то далеко-далеко в горной выси ему неожиданно почудился звук, печальный, щемящий и светлый, словно затянули свою трубную песнь отлетающие журавли, и к горлу подступила горячая, крутого замеса, слеза. Он вытянулся за столом, вслушиваясь, повторится звук или нет. Но звук больше не возник, да и не было его вовсе. Да и какие тут журавли, в их суровой местности? Зимой морозы, случается, под шестьдесят ухают, запросто градусник разрывают, а мохнатые, специальной «холодоустойчивой» породы воробьи, и те, случается, обрезают полет, на землю мертвыми камешками падают, а летом, бывает, и злой иней белым пухом обмахрит землю. Хотя все равно через два часа пух этот словно языком слизывает бешеный тропический жар — при таких сумасшедших перепадах никаким журавлям, нежным созданиям, не выдюжить. Берчанов машинально приложился кулаком к крышке стола, снова задумался.
Однажды Берчанов-старший крошечным, в пол-ладони всего величиной, топориком сумел совладать с медведем-шатуном. Этот случай сын хорошо запомнил: пацаном тогда был — если не изменяет память, десять в ту пору стукнуло. Случилось это зимой, на амурском берегу. В пади, примыкающей к самому льду, Берчанов-старший рубил березовый прут для чалки. Работал в полную отдачу — лишь пар стекленел над спиной и звонким хрустальным крошевом ссылался вниз. В полдень присел на связку прута перекурить, только забрался в карман за табаком, как вдруг из-под кедровой корчаги вылез медведь, с четверенек поднялся на задние лапы и молча пошел на Федора Лукьяныча. Тот ухватил топорик за скользкий черенок, ударил — как о камень; острие соскользнуло, только шатуна обозлил. А тут еще при взмахе выкинул левую руку вперед, кулак и угодил медведю в пасть. Тот сжал челюсти — ни просунуть руку дальше в горло, ни назад вытащить. Перед глазами овалы цветастые поплыли, хотя к боли Берчанов был привычный: видно, медведь клыками нерв прихватил. Но все-таки изловчился, ударил: топориком по хребтине. Топор соскочил с черенка и утонул в снегу. Вспомнил о ноже-складне, стал скрести пальцами по правому карману — оказалось, что складень, как на грех, в телогрейке слева лежит. Чувствует Берчанов, что шансы уже исчерпаны, на помощь никто не придет, и сознание уже мутнеет — как сквозь марлю, видит медвежью морду, — на последнем дыхании ухватил шатуна правой рукой за нос, пальцами под клыки, потащил вверх, а левой стал давить вниз. Так и разжал челюсти, разорвал рот. Медведь бросил Берчанова, шатаясь, закосолапил в сторону, ткнулся лобастой головой в свежий березовый комель и начал когтями древесный атлас чистить. Берчанов, теряя силы, хватая сухой, заскорузлый от мороза снег ртом, пополз домой. Ничего, дополз. Оклемался. Только рука покусанной осталась, хотя и лечили ее особыми таежными средствами, которые, по словам знахарок, куда сильнее фабричных лекарств. Но до конца так и не долечили. На ладони осталась неровно стесанной мякоть, а чуть повыше, на запястье, затянулись тонкой кожей рваные укусы, похожие на штыковые следы, имели они мертвенный, иссиза-свеклушный цвет. Да еще пальцы плохо шевелились, а в остальном ничего. Словом, как был Берчанов-старший самым настоящим слоном, так после схватки с лютым зверем им и продолжал оставаться.
Берчанов-младший в отца пошел, тоже здоров донельзя — силу на четверых разделить можно, и каждый из четырех в обиде не останется, но такими подвигами, что под стать отцу, не занимался. В голову не приходило, да и норов другой, и неудобно — все-таки главный инженер, огромная сплавконтора на плечах. Тут своих медведей полно, и схватки случаются потяжелее, чем стычка с голодным, проснувшимся в неподходящую зимнюю пору зверем.
Главный инженер незряче взглянул в окно, где накапливалась сырая удушливая тяжесть, набухало вязкой свинцовой густотой небо, деревья настороженно притихли, прислушиваясь к чему-то важному и опасному для себя, и птицы, те тоже притихли, куда-то подевались, попрятались — ни писка, ни чириканья, истаял гомон. Стены берчановского кабинета впитали в себя краску неба, эту непривычную жирную серость, покрылись пепловым налетом. Он прислушался к далекому, осипшему в дороге гудку одинокого парохода, одолевающего зейскую стремнину. Привычно потеребил себя за подбородок, пробуя пальцами кожу — как утром гладко ни бреешься, к вечеру все равно колючим становишься: прорастает буйный волос. Вздохнул беспричинно, будто удивляясь чему-то, посмотрел в рукав, на часы — диковинные, дисковые, в Голландии подарили, где он побывал в командировке, — по таким часам не сразу время определишь: циферблат черный, с вороновым отливом, диски тоже черные, цифры блеклые... И вообще, чтоб таким механизмом пользоваться, надо специальное обучение пройти, месячные курсы окончить. Часы Берчанову поначалу не понравились, и он забросил их было в ящик письменного стола, но Ирина, жена, извлекла их оттуда, заставила вновь надеть на руку. Сказала, что дисковые часы — это очень модно.
Берчанов жене перечить не стал, подчинился, хотя и с неохотой. Решил — и правильно решил, — что если не соглашаться со второй половиной, так уж по-крупному, а в мелочах, когда ему почти безразлично, какие часы у него тикают на запястье, дисковые или старенькая, с вытертым до желтизны корпусом «Победа», — пусть уж тут Ирина верх берет.
Он вздохнул, затянулся воздухом, и в ноздри вошла кисловатая острая вонь пороха, будто только что ударил дуплетом по пролетным гусям, да промазал, и от огорчения все чувства у него обострились, глаза стали зоркими, как у кобчика, а нюх — словно у сеттера, который каждый оттенок на зубок берет, любой полутон чувствует. Запах пороха — это, верно, запах собирающейся грозы. Закрыл папку с личным делом отца, сверху на приколотом скрепкой листке приказа о выдаче «тринадцатой зарплаты» старейшему работнику сплавконторы, бывшему старшине катера «Сопка» Берчанову Ф. Л.» крупно, тяжело давя пальцем перо, расписался. «Тринадцатую зарплату» как премию сплавконтора выдавала всем старым рабочим, ушедшим на пенсию. Нельзя было обижать стариков, столько ведь лет на Зее проработали, столько леса из верховьев доставили на буксирах, одолевая все капризы реки-злюки, все хляби, непогодья. Заслуженные эти денежки.
Берчанов нажал кнопку звонка, вызывая секретаршу, и, прежде чем отворилась дверь, подумал, что приказ на отца лучше было бы подписать директору сплавконторы — так честнее и самозащищеннее, объективнее, что ли, будет. Хотя люди здесь все свои, и пересуды не пойдут, и никто не станет порицать его, но... Иногда все-таки случается такое, что