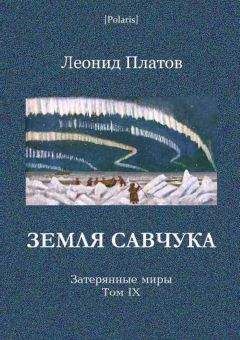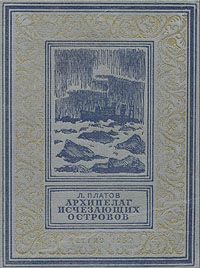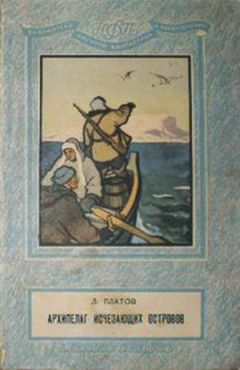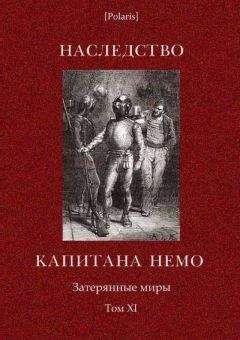— Онкилоны, — пояснил художник.
На мысе, носившем мое имя, средь скал поднимались постройки полярной станции. Дальше, в устье реки Савчука, обозначены были условными крестиками верфи.
Я ухмыльнулся, увидев, что одна названа Горой Анны (Аней звали девочку, в которую мы с Андреем были влюблены одновременно и оба без взаимности).
— А город я думаю разбить вот на этой поляне, — сказал Андрей, и под его уверенным карандашом стали возникать у зеленой опушки леса белые прямоугольники домов.
— Почему же меридианы и параллели не нанес? — спросил я. — Какие координаты города?
— К-к-координаты пока не известны.
Вскоре жизнь надолго разобщила нас с Андреем. Он уехал с семьей в Донбасс, в Сталино, учился там и стал горным инженером. В письмах (изредка мы обменивались письмами) я отзывался об избранной им профессии со снисходительностью. С моей точки зрения, мне повезло больше, — я стал гидрографом.
…Все сбывалось, как в счастливом сне.
Гидрографическое судно «Нерпа», на котором мне предстояло работать, должно было пройти по границе материковой отмели северных морей, исправляя отдельные неточности на карте. Конечной целью экспедиции была северо-западная окраина моря Лаптевых, где в океан особенно далеко под водой выдавалась материковая отмель. Места эти, вчерне обследованные седовцами во время дрейфа, по-видимому, сулили еще много неожиданностей для гидрографов. Там же располагался и район гипотетической земли Санникова, о существовании которой больше ста лет спорили ученые. Начальник экспедиции рассчитывал к сентябрю быть уже в районе белого пятна.
Я вышел на палубу. Соленые брызги летят в лицо, крепко покачивает.
Над горизонтом протянулась узкая полоска, что-то вроде неподвижного перистого облака. Это отражение далеких, еще не видных льдов — ледяное небо. Потом повеяло холодом, на волнах закачались зеленовато-белые ледники. Кромка льда была недалеко.
У восточных берегов Земли Франца-Иосифа нам пришлось задержаться, зима надвинулась быстро, быстрее, чем ожидали.
Мы спустились к югу, однако южнее обстановка была также неблагоприятна. С тревогой наблюдали мы, как белесая пленка покрыла море. Зыбь от винтов колебала ее, и она собиралась складками, подобно гофрированной стали.
Все плотнее делались льды вокруг. Вечером 29 сентября справа по борту блеснули огоньки с мыса Челюскин. Утром, поднявшись на палубу, мы увидели, что пролив Вилькицкого, соединяющий Карское море с морем Лаптевых, заперт наглухо льдом.
Нам предстояло зимовать у самой северной оконечности материка, в одной из бухт Таймырского полуострова.
Берег Таймыра выглядел безрадостно: плоская тундра чуть заметно поднималась к югу, сливаясь вдали с туманным небом. Мне вспомнилась характеристика Норденшельда, впервые обогнувшего мыс Челюскин на корабле:
«…местность эта была самой однообразной и пустынной из всех виденных мною на Крайнем Севере».
Однообразной она и осталась, но пустынной ее назвать было уже нельзя. В шести километрах от бухты, где «Нерпа» отдала якорь, поднимались бревенчатые дома станции, отстроенной еще Папаниным.
Все было здесь добротно, прочно, солидно: жилые помещения, научные павильоны, гараж для вездеходов-амфибий, скотные сараи — целый поселок. Только одно неприятно поражало взгляд — пустынная гладь ландшафта: тундра, льды, вода, — ни деревца, ни кустика вблизи зимовки.
И лишь в кают-компании, так по аналогии с кораблем называлась общая комната, где по вечерам собирались все зимовщики, я увидел зелень, которой так недоставало здесь. Широкие листья пальмы-хамеропс и фикусов глянцевито поблескивали в ярком свете электрических ламп. Увы, то была подделка, искусственные растения в кадках, наполненных не землей, а опилками.
— И на том спасибо, — говорили с улыбкой зимовщики, — зеленый цвет все-таки отдых для глаз. А то ведь выйдешь за порог, — серо да бело все, полярная ночь…
Наступившая ночь, впрочем, показалась мне менее гнетущей, чем я представлял себе.
Это — не кромешная тьма. Нет, на широте мыса Челюскин в самую глухую полярную полночь, то есть в декабре, остается на горизонте, на его южной стороне, слабый отблеск. Метеорологи называют это «краем дня». Похоже, будто солнце, уходя за горизонт, неплотно притворило за собой дверь, оставив узенькую щелку, через которую проникает немного света.
Небо очень ясно, — в полнолуние видно было совсем хорошо, и самолеты, поднимавшие барографы для метеонаблюдений, ежедневно взлетали и садились при самом ограниченном количестве костров на аэродроме.
Физическая работа на воздухе, охота, прогулки на лыжах считались лучшим средством против полярной меланхолии. В большой цене была также шутка. Нигде я не видел, чтобы смеялись так много и охотно, как на этой зимовке.
В ту зиму пищу для острот регулярно подбрасывал Московский центральный телеграф. На самой северной оконечности материка героем дня был Бородавкер.
В адрес мыса летели телеграммы, одна за другой, требовательные, просительные, угрожающие. Бородавкера вызывали в арбитраж, Бородавкера с нетерпением ждали в каких-то учреждениях. Бородавкера понуждали выполнить и то, и это. Но зимовщики мыса Челюскин, при всем желании, ничем не могли помочь. Бородавкер никогда не значился в списках зимовщиков.
Кем был таинственный Бородавкер? Почему его связывали с зимовкой?
Вечерами на этот счет в кают-компании возникали самые фантастические предположения. Соседи-радисты с островов «Комсомольской Правды», с Домашнего, с Оловянного, с Уединения и даже с Хатанги сочувственно запрашивали: «Ну как? Куда опять вашего Бородавкера вызывают?».
Полярная эпопея Бородавкера кончилась внезапно.
— Конечно, Челюскинец, — сказал вдруг гидролог «Нерпы», — в этот день зимовщики обедали у нас на корабле. — Ну, ясно, станция Челюскинец! И как это раньше не пришло нам в голову?..
Хохот тотчас покрыл его слова. Телеграфистки спутали подмосковный поселок Челюскинец, что по Северной железной дороге, с мысом Челюскин, лежащим на рубеже двух арктических морей.
Тайна разъяснилась. Радиограмму начальнику телеграфа придумывали сообща, вложив в нее весь наличный запас иронии и сарказма… Веселые это все были ребята — радисты, метеорологи, летчики, монтеры, слесаря, вездеходчики. С каждым я мог легко свести дружбу, но подружился с Тынты Куркиным, знаменитым на побережье каюром и промышленником.
Он был немолод уже, темное худое лицо его, казалось, потрескалось, как земля в тундре, — так глубоки и часты были морщины. Но двигался он удивительно быстро, стрелял без промаха и на лыжах обгонял меня без труда.