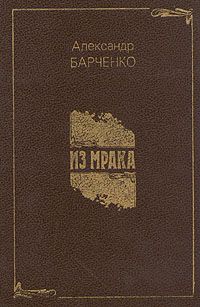— Тигр.
И было слышно, как близко треснула чаща под тяжестью тела.
Золотой диск луны стал против окна, всколыхнул темноту внутри развалин. В освещённом пространстве неслышно заметались крылатые тени вампиров.
Козодой, в погоне за бабочкой, нырнул через крышу, чуть не задел сидевших крылом, с писком кувырнулся в воздухе, исчез, зашуршав под карнизом. Долго сидели молча, слушали жуткие загадочные звуки, что рождает ночь в глубине джунглей.
Кто-то сердито сопел в кустах, должно быть дикобразы. Кто-то, может быть птица либо волчиха, жалобно стонал — точно ребёнок всхлипывал. Со стуком и шорохом посыпались с дерева орехи, суматоха вспыхнула где-то под плотной листвой древесной вершины, гортанные тревожные крики, испуганный клёкот. Ветви затряслись под прыжками.
Крупный питон схватил уснувшую близко к стволу молодую обезьяну.
Индус первый нарушил молчание. Спросил осторожно, с запинкой:
— Ты… совершенно спокоен?
Европеец повернулся к товарищу с молчаливым вопросом. Индус прибавил:
— Я имею в виду твоё неожиданное решение.
— Почему же неожиданное? Разве это не последний этап большинства посвящённых? Когда-то я пытался начать с него, почему мне им же не кончить? Не ты ли сам, неделю назад, укорял меня за привязанность… к жизни…
Индус на миг обернулся к северу, сказал, благоговейно понизив голос:
— Но тебя освободили оттуда… они…
Европеец устало возразил:
— Я взял на себя задачу не по силам, брат. Да, я думал иначе. Там, где ты пробыл только полгода, в мои страшные одиннадцать лет, вернее, в сплошную одиннадцатилетнюю ночь я рвался на волю, к жизни, к людям. Страшной ошибкой казался мне подвиг посвящённых, обрекших себя на вечную ночь… Я строил тысячи планов, как, если случай, ошибка, чудо освободят меня, я приду в мир, просветлённый великим знанием, как открою путь ищущим могучим словом того, кто знает…
— Ты сделал многое.
— Э, полно… Написал дюжину работ, оплёванных тупицами и за ними освистанных толпой. Под кличкой шарлатана…
Индус перебил серьёзно:
— Брат. Ты не прав. Твои научные труды оценены, ты носишь звание профессора высшей школы.
Европеец горько засмеялся.
— Французский профессор и русский приват-доцент? А ты имеешь понятие, чему я обязан этими званиями? Дорогой друг, те работы, которые я защитил на соискание учёных степеней, выполнит любой ремесленник. Попробуй я заикнуться единым словом о том, что открыло мне посвящение, да не было бы бульварного листка, где полуграмотный репортёр не закидал бы меня грязью. Разве меня пустили бы на кафедру?
Европеец помолчал.
— Десятки светлых умов, — начал он снова, — люди, уже успевшие открыть факультетской науке самые широкие горизонты, не смеют коснуться той области, что открывает совершенное знание. Целльнер объявлен сумасшедшим. Круксу едва ли не снова пришлось завоёвывать место в науке после опытов с тем, реальность чего сумеет доказать низшей степени чёла. Леман систематизировал труды целого ряда виднейших имён. Но разве попробовал он намекнуть даже на то, что учение о жизни неорганического мира — в полном объёме наследство умершей науки, погибшей культуры. Нет семьи, где бы не было в настоящее время на любом языке священных книг древности. Десятки учёных пережёвывают вопрос о степени древности, спорят с пеной у рта о том, написано ли пятикнижие Моисея одновременно или на протяжении тысячелетий целым рядом пророков, считают третью книгу Ездры подложной потому, что в ней предвосхищены символы апокалипсиса, и забывают о том, что символы заключительного откровения священной книги рассеяны, начиная с первой её страницы, древность которой не возбуждала сомнений ни в ком.
— Люди слепы.
— Неправда. Не слепы, а закрывают глаза. Миллионы миров, доступных глазам непосвящённого, окружают нашу планету. Все знают, что наша планета — песчинка, что доступны даже нашим научным аппаратам огромные, всепроникающие, невидимые для глаза миры, что сами мы с нашей планетой погружены в реальный, деятельный, бесконечно разнообразный мир невидимой сущности. В учебных заведениях обязательны серии опытов с формами этой сущности под именем икс-лучей, альфа-лучей и так далее. Герц опрокинул вверх дном понятие об электричестве; физиология проследила путь ощущений до конечного этапа, малых пирамидальных клеток мозговой коры; элементарные учебники твердят о том, что мы не видим, не слышим, не ощущаем десятой доли того что окружает нас, и, несмотря на это… Несмотря на это, стоит поднять голос о том, что внутренняя сущность человека переживает тело, стоит лишь формулировать открытия той же факультетской науки определённой фразой: видимый, осязаемый мир проникнут миром невидимой сущности, более деятельной, более разнообразной, более стройной, формулировать то, о чём долбит каждая отрасль науки в отдельности, и тебя зашвыряют грязью.
Индус долго молчал. Возразил неуверенно:
— Для людей не пришло ещё время.
— Оно не придёт никогда, — перебил доктор порывисто. — Оно не придёт теперь, как не пришло для тех, в знания которых нас посвятили. Приходила тебе в голову, брат, такая мысль… Если бы погибшая раса, перед культурой которой меркнут завоевания нашей науки, шла в своём развитии иным путём, не тем, что идёт современность, разве эта раса могла бы погибнуть целиком в геологической катастрофе, оставив ничтожнейшую кучку посвящённых? Духовные руководители погибшего «красного человечества», разрешившие проблему воздухоплавания уничтожением тяжести и вечного двигателя применением этой последней, могли не предугадать этой катастрофы? Я убеждён, они кричали о ней, как будут кричать через пять — десять лет современные нам светлые умы, и так же глумящаяся толпа желудков встречала их насмешками и свистом… Недолго ходить за примером: ты читал заметку профессора Небля?
— Небля, из Филадельфии?
— Ну да. Небль… кажется, уж имя, авторитет. Мало того, сообщению его дал место на своих страницах такой солидный орган, как «Американский геологический журнал». Почтенный учёный с цифрами и фактами в руках предупреждает о том, что знаем мы, посвящённые, о страшной катастрофе, что постигнет Европу в 1972 году, когда очередной вздох нашей планеты поднимет дно Атлантического океана. Мы с тобой знаем, что Небль ошибся всего на несколько лет. А каким изумлением встретила сообщение Небля европейская пресса. С каким презрением отнеслись европейские авторитеты, те самые, что в своих же учебниках доказывают неопровержимыми данными, что Париж, по крайней мере, три раза был дном морским. Все знают, что это было, но допускать, что это будет…