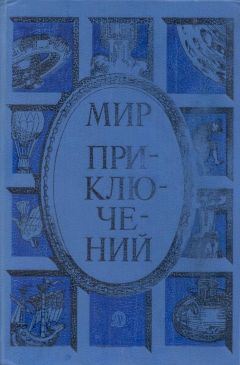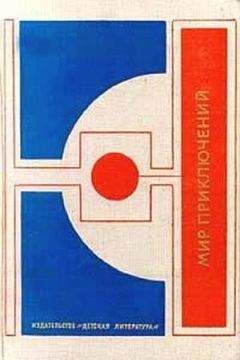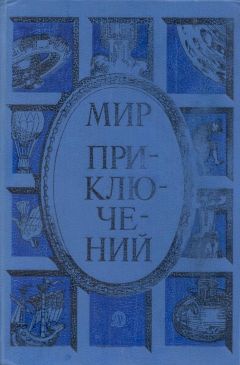— Что с ним?
— Сидит отдыхает.
Лазарев встрепенулся:
— Он не хотел… Оставил он меня, знаю. Только я тоже виноват. Зачем мне понадобилось…
— Я, Трофим, не прокурор, не суд, — строго сказал инспектор. — Взял не свое — отвечай по закону.
После этих слов сознание Лазарева как бы прояснилось окончательно. Он увидел, как Пионер Георгиевич по-простецки, зубами развязывает узел на платке. Потом взял алмаз пальцами. При косом свете солнца кристалл то вспыхивал, то мерк глазом хищного зверя.
— Вы знаете, товарищ инспектор, — собрался с силами Трофим, — для нас, работяг, цена одного карата… не сравнима с рыночной стоимостью на брильянты. Для меня он — свои брат, трудяга: бурит, режет, шлифует…
— Ты свои силы побереги, — сказал инспектор, поднимаясь и берясь за волокушу. — Я уже не говорю о том, что и тебя Сашка бросил в беде. Не оставил, а попросту бросил. Предал. А это тоже нарушение — и не малое.
И старший лейтенант потащил волокушу дальше, обходя кочки, к дороге, до которой еще было далековато.
А. АБРАМОВ, С. АБРАМОВ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ МОГ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
Фантастическая повесть
Вчера я написал завещание.
Почему?
Потому что, как уверяет Коран, дни мои уже сочтены. Аллахом. А я — то знаю, кем они сочтены.
Завещание было нотариально оформлено в старинной лондонской адвокатской конторе «Хорпбек и Хорнбек» в одном из тишайших переулочков Сити. Несмотря на то что оно написано корявым языком английской юридической документации, я помню его от слова до слова.
«Я, Монтегю Генри Клайд 34 лет, проживающий на Друммонд-стрит, 23, штатный ассистент кафедры истории английской литературы Лондонского университета, сим объявляю свою последнюю волю.
В случае моей смерти все личное имущество мое, за исключением книг и не принадлежащей мне мебели, я оставляю квартирной хозяйке Розалии Соммерфилд. Книги передаю в безвозмездное пользование владельцу букинистической лавочки на Друммонд-стрит Джозайе Барнстеплу. Купленные у него, они к нему и вернутся.
Самое же ценное и дорогое для меня — рукопись в двух экземплярах под названием „Империя невидимок“ — завещаю двум единственным знающим о ней лицам, а именно:
Сьюзен Мейуэйн, студентке третьего курса отделения ядерной физики того же университета, и Валентину Глинке, русскому по национальности, гражданину Советского Союза, кандидату филологических наук, по согласованию с Московским университетом и в порядке обмена научными кадрами проходящего стажировку на моей кафедре, с тем, что оба они передадут имеющийся у каждого экземпляр вышеупомянутой рукописи: первый — английскому Королевскому обществу, второй — Академии наук СССР, и добьются признания ее, как единственного научного объяснения до сих пор не получивших такового всех загадочных событий, потрясших мир за последние месяцы.
Независимо от согласия или отказа перечисленных высоких научных организаций, владельцам рукописи предоставляется неограниченное право публикации ее как отдельным изданием, так и в периодической печати с их собственными комментариями и авторским гонораром, который издатели обязаны уплатить им за публикацию.
Настоящее завещание составлено мною в здравом уме и твердой памяти, что подтверждается письменным свидетельством психиатрического отделения частной клиники профессора Уингема, Чейн-уок, 37, и не может быть оспорено никем без сответствующих доказательств».
Стряпчий Джереми Хорнбек, оформляя завещание, не проявил никакого любопытства к содержанию рукописи. Он только заметил:
— Может быть, последний пункт нуждается в уточнении?
— Не нуждается, — отрезал я. — Одно свидетельство психиатров вы используете в случае возможного обвинения вас в сговоре с сумасшедшим, другое опубликует профессор Уингем для опровержения публичной клеветы о моей психической неполноценности.
Разговор об этом возник сразу же после моего возвращения в клинику, не в психиатрическое отделение, куда я обращался за нужным мне освидетльствованием, а в терапевтическое, где находился на излечении уже второй месяц.
— Составили завещание? — спросил Уингем уже во время вечернего обхода. — Торопитесь, дружище, торопитесь.
— Но у меня же лейкоз, профессор, — сказал я, — и притом неизвестная вам форма.
— Это нас и обнадеживает, — подмигнул мне он с видом человека, уверяющего вас, что на улице прекрасная погода, в то время как дождь зачастил с утра. — Во всяком случае, — добавил он, — течение болезни не оказывает обычного в таких случаях угнетающего влияния на психику.
Значит, уверен в моей психике. Что ж, позондируем.
— А что вы ответите, профессор, если я вам скажу, что лейкоз у меня инфекционный, а инфекция занесена из космоса?
— Отвечу, что вы — шутник и со склонностью к мистификации.
Он поднялся с белоснежного табурета у моей койки и, не оглядываясь, пошел к выходу из палаты. Никогда не поверит. Не поверил же Доуни, когда я объяснил ему, что в действительности произошло в июне этого года. Не поверил и с перепугу прислал ко мне своего лечащего врача.
— Я пришел, чтобы проверить вас, — сказал тот. — Профессор Доуни очень обеспокоен состоянием вашей нервной системы.
Я сразу понял, что мне грозит.
— Не трудитесь, доктор, — извинился я. — Прошу прощения. Все, что я говорил Доуни, было шуткой. Я просто разыграл старика.
— Но ведь был же электрический разряд!
— Не отрицаю. Только он прошел рядом, не задев меня. Даже кожа не обожжена. — Я погладил затылок за ухом. — Через два часа после шока я уже мог играть в гольф. И никаких последствий. Ни головокружений, ни боли.
— Но Доуни…
— Забил тревогу слишком поспешно. Придется извиняться перед стариком за дурную шутку. А гонорар получите, сэр.
— За что?
— За старание. Вы же не виноваты в моих проказах.
После визита врача я уже никому не говорил о том, что случилось после той памятной грозы у коттеджа Доуни на дороге в Саутгемптоп. Только двум упомянутым в завещании друзьям.
Близких друзей в Лондоне у меня вообще не было. Доуни был только коллегой по кафедре, разделявшим бремя профессиональных трудов и забот, Розалия Соммерфилд — только добросовестной и ненавязчивой квартирной хозяйкой, соседи — вежливыми, но не коммуникабельными знакомыми, как и большинство живущих на одной улице англичан. Лондон не Палермо или Неаполь, где жители перекликаются с одного конца улицы на другой, в Лондоне одиночество — привычное состояние холостяка, если только судьба не подарит ему редкую, не корыстную дружбу.