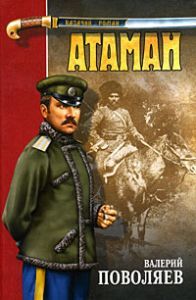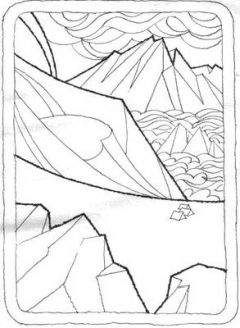любит сплав, не любит. И должность он занял по инерции: пришел армейский отставник, попросил в обкоме дать дело; было свободное кресло — посадили. Оказывается, не на место посадили. С таким же успехом он мог возглавить школу кулинаров, родильный дом, мастерскую по штопке белья, овощную палатку, лодочную станцию, секцию юннатов в городском Дворце пионеров — что ему б ни дали, то бы он и взял».
Берчанов вновь притиснул трубку к уху. И вовремя.
— Ты меня понял? — спросил Горюнов.
— Понял, — ответил главный инженер.
— Поступай, как я сказал, и будь готов. Завтра приедем.
— Я готов. До встречи, — сказал Берчанов.
Аппарат зазвенел сухо, отключаясь, и кабинет вновь заполнила тишина, тяжелая, густая, серьезная и немного тягостная в этой своей серьезности. Берчанов разогнул сведенную от долгого сидения ногу, покрутил головой от слеповатых нерезких проколов, пытавшихся поразить мякоть мышц, начал думать об утеплении цехов, за которое люди ему спасибо скажут. Тут все ясно как божий день — пока он не построит теплых цехов, от него будет уходить народ. В деревянных, насквозь промораживаемых зимней стужей помещениях много не наработаешь, а если и наработаешь, то потом ревматизмами, костными болями до конца дней своих расплачиваться придется. Ведь все время на открытом воздухе, на морозе, на ветру, в непросыхаемой, негнущейся одежде... Ой как нужны теплые цеха! Скрипнула дверь, в проеме показалась Зиночка.
— Федр Федрович!
— Да, — тихо отозвался Берчанов.
— Хочу напомнить, что вы на пять часов Евтухова, тракториста, вызывали. Сейчас уже начало шестого.
Берчанов отвернул рукав пиджака, сощурился: сколько там показывают его сверхмодные? Диски поблескивали чернотой; но вот что показывали — сразу не разобрать, а когда разобрал, то поморщился недовольно — семь минут шестого! Уже семь минут человек ждет в приемной.
— Он здесь?
— Здесь. Попросить?
— Давайте, — Берчанов снял пиджак, повесил на спинку стула, стоявшего рядом; концы длинных рукавов, улегшихся на полу, подобрал и крест-накрест сложил на дырчатом круглом сиденье.
— Можно? — спросил с порога Евтухов.
Берчанов молча кивнул, уселся поудобнее.
На улице стало парить еще сильнее, и по душной густоте воздуха, от которой ладони становились липкими, словно их в сахарной пудре вымазали, чувствовалось, что вот-вот природа разразится, вот-вот грянет гром.
Евтухов, молодой, мягкий, ярко-рыжий, с конопушинами редкой величины — с гривенник, не меньше, — отчего лицо казалось обрызганным звучной, издали видной краской, сел на стул, стоявший напротив, и с вольным несмущающимся видом начал оглядываться по сторонам. Это главному инженеру понравилось, ему всегда нравилась смелость — а рыжий Евтухов явно был парнем без робости, — а то, бывает, сидит перед тобою пожилой человек, трудом своим, биографией снискавший большое уважение, и таким чужаком себя чувствует, что стоит ему только заговорить, как хочется одернуть его, сказать, чтобы вообще не говорил: неприятно ведь видеть, как человек смущается, потеет, мямлит, пугается всего, словно школяр, которому грозит двойка.
— Владимир... — начал Берчанов, потер пальцем зачесавшуюся переносицу. Евтухов блеснул белками светлых, почти прозрачных глаз, собрал вежливые складочки на лбу, растянул губы в улыбке. Зубы у него были редкие, косо посаженные, сикось-накось, как любили говорить в берчановском детстве, с неровным нижним обрезом, смешные какие-то. Не‑ет, что ни говори, такие зубы в мальчишестве хорошо иметь, Федька Берчанов в свое время отчаянно завидовал редкозубикам — они дальше всех цыкали слюной. И еще редкозубики были самыми смелыми и бесшабашными вралями.
— Семеныч, — подсказал Евтухов.
— У меня есть к вам предложение, Владимир Семенович, — тихо и скучно сказал Берчанов. — Хотим послать вас учиться в техникум. Вы ведь в этом году школу закончили?
— В этом. Вечернюю.
— Тройки есть?
— Одна.
— Эх, тройки, тройки... Самая демократичная отметка — тройка, — улыбнулся Берчанов, и лицо его будто разморозилось, жестковатые усталые складки, в которых прятались углы рта, обвяли, что-то пацанье, из лихого детства, прорезалось в размягченном лике главного. — Тройка, трюнька, трешка, как мы ее только не прозывали. Раз десять классов за плечами — значит, сразу на третий курс... Стипендию будем платить. Семьдесят пять рублей. Как, согласен?
— Надо подумать, — быстро проговорил Евтухов, резко покрутил рыжей головой, словно подсолнух шляпой.
«Ишь ты, быстрый какой. Ртуть, — подумал Берчанов. — Реакция хорошая. Такие вот рыжастые да скорые бывают хорошими боксерами. Правда, только в легком весе. Стоит им перейти в полусредний или средний вес, где кроме быстроты важна еще и масса, и бугры мышц, как чемпионство их кончается».
— Говоря откровенно, мне жаль вас вот так отпускать... Жаль на три года от производства отрывать. Тракторист вы хороший, а хорошие трактористы нам позарез нужны. Ну а грамотные, прочно стоящие на ногах люди — вдвойне. Техники новой много нынче приходит, машины все сложные, интересные. С каждым годом будет прибывать все больше и больше. Пора такая наступила. Вернетесь с дипломом, мастером поставим. Лады?
— Жалко на три года работу бросать.
— Работа никуда не уйдет. Договорились?
Евтухов коротко наклонил голову, рыжий чуб рассыпался, съехал на лоб. Макушек у Евтухова было две. Двухмакушечные, они счастливые, двухмакушечным всегда везет.
— До свиданья, Федор Федорович!
— До свиданья. Приказ о командировке в Благовещенск на сдачу экзаменов мы подготовим. Завтра можете получить деньги и ехать. Ни пуха вам...
— К черту, — ничуть не запнувшись, с армейской четкостью отбарабанил Евтухов и закрыл за собой дверь. Некоторое время он потоптался в предбаннике, о чем-то говоря с Зиночкой, — было слышно, как скрипит старый, рассохшийся пол под его ногами, потом гулко хлопнула дверь приемной.
Берчанов встал, подошел к окну. Огромная и странная в своей огромности, набрякшая ночной чернотой туча загромоздила небо, заняв почти все светлое пространство, край ее уходил за стертый предгрозовой темнотой горизонт, сливался с ним. Длинная и тонкая, страшновато острая молния ударила в Зею где-то за Кренделем — крутым колтыжистым островом, на котором в любое время дня и даже ночи, в любую погоду стыли согбенные фигуры рыбаков. Молния вошла в воду плоско, оплавив ее золотом, и на волнах заплясали, оживая, бурунчики — от молнии, как от гранаты, сыпануло осколками. Раздался грохот, от которого у Берчанова мгновенно заломило в висках,