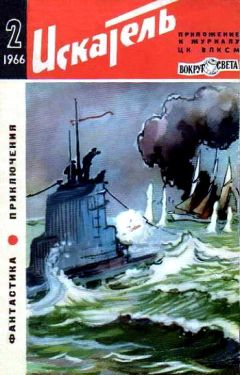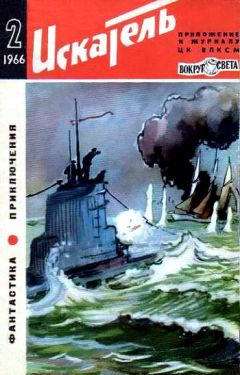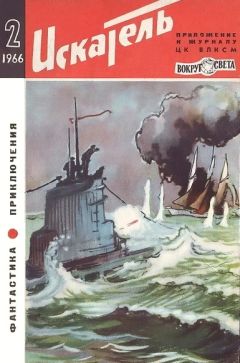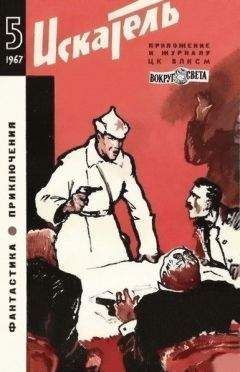У Митьки загорелись глаза.
— Так, теть Симона…
— Поздно, — сказала Симона. — Они же передали, что приговор приведен в исполнение.
Мобиль, тихонько ворча, подполз к ним и остановился в полутора метрах. Казалось, еще немного, и он подтолкнет их своим носом: пора, мол.
Симона протянула руку:
— Салюд, человек.
Митька ничего не сказал, только пожал протянутую ладонь так, что даже Симоне стало больно.
Мобиль качнулся, когда Симона, пригнувшись, влезла внутрь, и резко взмыл вверх. И пока сквозь прозрачную стенку корабля были видны фигуры сидевших там людей, Митька отчетливо видел Симону, — она была слишком большая, чтобы ее можно было с кем-нибудь спутать.
Посланная в ноябре минувшего года к планете Венера советская автоматическая станция «Венера-3» 1 марта 1966 года в 9 часов 56 минут московского времени достигла планеты и доставила на ее поверхность вымпел с Гербом Союза Советских Социалистических Республик. Точная встреча была обеспечена успешной коррекцией траектории полета станции, приведенной 26 декабря 1965 года. Другая автоматическая станция, «Венера-2», полет которой не корректировался, прошла на заданном удалении от планеты только за счет точного выведения ее на межпланетную орбиту.
«Рекордом космической точности» называют новый успех советской науки и техники.
Эксперименты, выполненные с помощью автоматических станций «Венера-2» и «Венера-3», позволили решить ряд принципиальных задач межпланетных полетов и получить новые научные данные.
Они указали путь к таинственной планете, вечно закрытой густыми облаками.
Есть ли на ней жизнь? И если есть, то какие формы она принимает? Существуют ли на планете загадочные венериане, подобные или не схожие с теми, которых читатель только что встретил в повести О. Ларионовой, а до этого встречал во многих произведениях фантастов?
Об этом нам пока никто не скажет. Но путь на Венеру проложен. И мы уверены, что по этому пути отправятся новые советские космические корабли, которые установят связь с этой планетой для получения необходимой информации.
Борис ГРОМОВ
НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Первый рассказ
И чего я уехал так далеко от дома? И зачем я только покинул благословенные и родные южные края? Там, дома, на юге, мои друзья пьют душистое и веселое молодое вино мажари или отправляются торжественно, как в заграничное плавание, из аллеи в аллею гулять, а навстречу им — пульсирующие, зеленые и голубые волны заката, смутный гул толпы и долгие взгляды девушек.
Там, на юге, сейчас середина медленной томительной осени, улицы стали прозрачней и чище, и базары ликуют, и тысячи тончайших стойких запахов не отпускают с базара…
Машина идет по лежневке, как по стиральной доске, ее сотрясает непрерывная дрожь, тело мое бессильно, как желе: я вторые сутки провожу в машине — мотаюсь с пикета на пикет по трассе, прорывающей оборону тайги.
А тайга буйствует и сопротивляется нам, не перестает устраивать неожиданные неприятности и жестокие сюрпризы, с молчаливым упорством старается сорвать все сроки работ, а сроки и без того торопят нас, задают стремительный темп и диктуют: скорость, скорость, скорость…
От Тэбука до Ухты протянулась моя дорога — мимо высоких сосен, через пылающий коридор короткой приполярной осени. И нет конца дороге, потому что я монтажник, мастер, строящий трассу.
Валька-шофер просит меня не спать, и я пою хриплым вибрирующим голосом песню без начала и конца.
Машина идет по колдобинам, стальные рессоры ее давно побиты нашей веселой дорогой, и я ношусь в просторной зиловской кабине, как гроб в гоголевской сказке, задевая по пути все углы, все выступы и скобы. Но я привык за полгода работы на трассе к такой езде.
В кузове громыхают баллоны с кислородом, которые трижды должны были взорваться от ударов и сотрясений, если верить инструкции по транспортировке, но почему-то до сих пор целы, а с ними целы и мы.
— Эх, — говорит сокрушенно Валька, — рази это жизнь, мамочки мои? Мают, просят: давай, Валя, давай! Не подведи, Валя! Не подкачай! А месяц к концу — ни пены, ни пузырей… А машина! Рази это машина? Хочешь ремонту — не дают ремонту! Все торопятся, куда-то все спешат. А я не могу. Почему-то у меня не врождено в жизни торопиться…
Машину влетает с размаху в яму, ревет яростно и выпрыгивает далеко вперед. На голове у меня вспыхивает малиновая шишка ватт под сорок.
— Пой, — просит Валька. — Пой, а то задремлю.
Нельзя, чтобы он задремал. Я пою.
Машина вырывается из цепких болотистых пространств.
Начинается ровная песчаная дорога: как на качелях — по холмам.
Машина идет в гору, и на стекло перед моими глазами ложится звездная карта мира. Я привычно, почти машинально, нахожу на ней тяжелый ковшик с погнувшейся ручкой и поднимаю глаза вверх — о, как высоко над моей головой Полярная звезда!
Машина идет все быстрее. Близится конец пути, конец сегодняшней дороги.
— Вона, — говорит Валька, — балок видать.
Из темноты вечера выплывает наш собачий домик на полозьях — балок. Он стоит косо на разъезженной обочине, из трубы заметно высекаются искры.
— Дома уже ребята. Уже пошабашили…
Я выпрыгиваю из кабины, пытаюсь размять задеревеневшее тело. Все посторонние мысли облетают с меня, как листва. Я поднимаюсь по ступенькам и открываю дверь.
Гонта сидит у раскаленной печурки усталый и грязный, сцепив на коленях громадные клешни кистей, ссутулившись. Остальные лежат на нарах.
— Как дела? — спрашиваю я с порога.
— Как сажа бела, — отвечает за всех Григорий Спасский, губастый парень из-под Тамбова, человек дерганый, дважды сидевший, но ребятами часто одобряемый. — Как в лесу… кругом дубы, и все шумят, — говорит он и громко хохочет.
— Курить есть? — угрюмо спрашивает Гонта.
Я протягиваю ему пачку кислого «Памира» местного производства. Все тянутся к Гонте, и в балке наступает минута блаженства.
— С утра не курили, — сварливо жалуется сварщик Говорков.
Я ни в чем не виноват, но я испытываю перед ними, перед этими ребятами, неясное чувство вины.
— Промокли до пупка, — добавляет Говорков, страдая от воспоминаний.
Опять я чувствую себя виновным… Не знаю, почему.
— А сапоги? — спрашиваю я. — Сапоги болотные есть?
— Текут, — отвечает Спасский. — Текут, стервы.