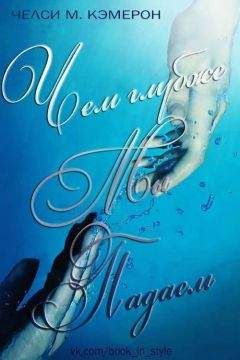Они вышли на тщательно расчищенное и приготовленное для встречи вражеского самолета поле.
— Посадка с той стороны? — кивнул полковник налево.
— Да.
— Вы знаете, майор, в чем заключается ваша главная задача?
— Думаю, да.
— Прошу объяснить.
— Самолет не должен подняться в воздух, если экипаж почувствует опасность в момент приземления.
Полковник довольно хмыкнул.
— И что сделано для этого?
— Прошу… — Бобренок совсем по-граждански махнул рукой, приглашая Карего идти за ним. Метров через двадцать остановился. — Осторожно, товарищ полковник, — предупредил, — а то можете сломать ногу. — Нагнулся и показал замаскированную канаву, тянувшуюся поперек всего поля. — Видите, — произнес он без удовольствия, — ее и сейчас, днем, заметить трудно, а что уж говорить про ночь? Этой канавы будет достаточно для повреждения любого шасси.
— А если они обнаружат канаву во время посадки?
— Исключено. Огни будут гореть с той стороны, должны остановиться, не доехав.
— Прекрасно! Какие еще сюрпризы приготовили дорогим гостям? Прожектор установлен?
— А как же! Напротив взлетной полосы. В случае чего мы ослепим экипаж. Никуда не денутся, товарищ полковник. Соорудили блиндажи, замаскировали их, видите, ничего не заметно.
— Да, не заметно, — согласился Карий.
— Все поле простреливается, мышь не спрячется. Даже если целый десант высадится, мы его встретим. С той стороны в овражке расположен взвод бойцов. Каждый четко знает свое задание. Думаю, осечки не будет.
— Кажется, все в порядке, — одобрил Карий. — Но почему всегда возникают непредвиденные обстоятельства? Сложная наша жизнь, майор.
— Не то слово, товарищ полковник.
— Как будете встречать их?
— Как и договорились.
— Нового ничего?
— Нет. Когда самолет остановится, к нему подойдут радист и Олексюк. Поздравят экипаж со счастливым прибытием. Разговаривая, постараются выяснить дальнейшие намерения диверсантов, а потом кто-нибудь из них включит фонарик. Это — условный сигнал нашей оперативной группе. Тогда и начнем их брать.
— Живыми, обязательно живыми.
— Такое задание дано. Группу захвата возглавит Толкунов.
— Ясно, майор. А какое настроение у Олексюка и радиста? Не подведут?
— Мы им все показали. И канаву, и прожектор, и блиндажи. Чтобы знали: у диверсантов нет ни одного шанса, в крайнем случае все лягут на этом поле. И они вместе с ними. Считаю, сделают все, чтобы облегчить свою судьбу.
— Посмотрим на блиндажи, — распорядился полковник.
Они прошли к первому блиндажу. Его нельзя разглядеть и в нескольких шагах: так хорошо был замаскирован. Тут был установлен крупнокалиберный пулемет, только он один мог скосить экипаж самолета и диверсантов в течение нескольких секунд, а таких пулеметов установили четыре.
Прощаясь, сказал Бобренку:
— Есть сообщения нашего человека из «Цеппелина». Немцы собираются забросить какого-то очень важного агента. Считаю, именно сегодня он и прилетит к вам. Акция запланирована главным управлением имперской безопасности, она на контроле у самого Кальтенбруннера. И вот что, этого диверсанта принимал Скорцени, может слыхал о таком, он освободил Муссолини. Скорцени подарил этому типу талисман — брелок для ключей в виде бронзового чертика. Вы тут смотрите, если обнаружите у диверсанта такой брелок, берегите этого прохиндея, как самих себя. Ясно?
После захода солнца сразу посвежело. Поднялся восточный ветер, он принес рваные тучи, потом они стали гуще, но полностью так и не затянули небо.
Бобренок сидел на бревне возле блиндажа, рядом пристроился Толкунов, он все же поспал, и майор смотрел на него с завистью. Немного нервничал. Потом спустился в блиндаж, где под охраной двух солдат сидели Олексюк с радистом. Те, увидев майора, встали. Бобренок махнул им рукой, спросил:
— Ну как?
Олексюк понял его.
— Все, как договорились, гражданин майор! — Он подобострастно улыбнулся, и Бобренку почему-то стало противно — резко повернулся и вышел из блиндажа.
А по небу мчались тучи, и время уже приближалось к полуночи.
Стал накрапывать дождь, и майор надел ватник. Еще раз обошел вокруг поля: тишина и покой, только ухает сыч, обманутый этим спокойствием.
Затем Бобренок спустился в блиндаж, где сидел Толкунов. Они налили из термоса по чашке горячего чая. Пили, обжигая губы, молча и сосредоточенно. Стрелки часов уже приближались к двум.
Без пяти два майор отдал приказ зажечь костры, и они вспыхнули почти мгновенно, как-то зловеще освещая путь вражескому самолету.
«Арадо» стоял, готовый к вылету, с прогретыми моторами. Экипаж уже занял свои места, и только командир самолета остался возле трапа.
Ипполитова с Суловой провожали Краусс, Кранке и Валбицын. Наступили последние минуты — переминались с ноги на ногу и перебрасывались какими-то незначительными репликами. А от самолета пахло металлом и маслом, этот запах будоражил и тревожил, даже угнетал, поскольку свидетельствовал о неотвратимости того, что сейчас произойдет, отсутствии всякого выбора, четкой запрограммированности всей судьбы Ипполитова. Он даже немного растерялся, подумав об этом, но не выказал растерянности, только мимолетная тень промелькнула по лицу. К счастью, никто ничего не заметил, все были заняты собой, каждый думал о том, чтобы скорее уж взлетел самолет, чтобы закончить наконец нудные проводы и вернуться к своим будничным, незначительным, но важным для себя делам. Наконец командир самолета подошел к Крауссу.
— Время, штурмбанфюрер, — произнес он кратко.
Все с облегчением стали прощаться. Ипполитов пропустил вперед Сулову, легко поднявшись по трапу, задержался на миг, помахал рукой и исчез в самолете. Командир закрыл дверцы, заревели моторы, и «арадо» стал выруливать на взлетную полосу.
Краусс повернулся и направился к «опель-адмиралу», сиротливо стоящему в стороне. Они с Кранке сели в машину, не попрощавшись с Валбицыным, который поплелся к своему «кадету», стоявшему значительно дальше.
Самолет набрал высоту и лег на курс. Моторы ревели спокойно. Ипполитов пристроился в кресле рядом с Суловой, хотел расслабиться, но нервное напряжение не спадало, ощущал даже, как дрожат кончики пальцев. Наконец немного успокоился, свободно вытянул ноги и закрыл глаза. В самолете пахло тем же горьковатым маслом, к нему примешивался еще какой-то запах. Ипполитов не мог понять, чем пахнет, это раздражало его. Он пошевелился в кресле и наконец сообразил, что пахнет косметикой. Повернулся к Суловой.