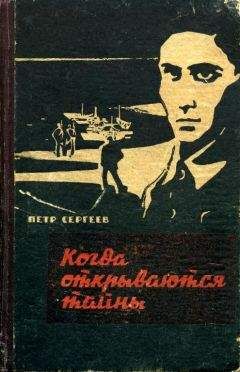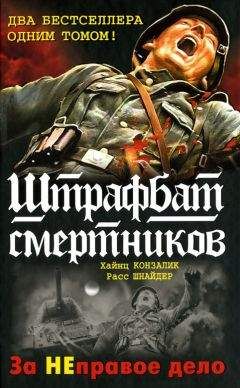Как тебя звали, всадник на вороном коне?..
Николай Петрович восстанавливает в памяти донесение, написанное им в первый день освобождения Станислава — 27 июля 1944 года:
«Докладываю, что вместе с младшими лейтенантами И. Никуловым и И. Юрченко прочесал порученный нам район города. На улице Коллонтая взяли в плен полковника венгерской армии. Возле бывшего комиссариата полиции с помощью местных жителей задержали и обезоружили двух полицаев…»
В тот день молодые чекисты были заняты по горло. В районе Софиевки и Пасечной еще шла перестрелка, еще мертвые смотрели в задымленное небо удивленными глазами, а младший лейтенант Ильин уже стоял на страже мирной жизни города.
— А еще, кроме всего прочего, мы тушили пожар в доме, где помещалось станиславское гестапо. Кригер, его начальник, удирая, приказал уничтожить архивы. Мы уже падали с ног от усталости, но горел архив, важные документы… И мы бросились в огонь, спасая их…
Спустя десятилетия я держал в руках обгоревшую папку из того архива Станиславского гестапо, в которой чудом уцелели протоколы допросов руководителя подпольной комсомольской организации в селе Зеленой Надвирнянского района Елены Смеречук. Через огромные временные расстояния — а происходило это в ноябре 1941 года, когда фашистские полчища угрожали Москве — долетали к людям гордые слова гуцульской девушки: «Да, я верю в дело Коммунистической партии! Да, я верю в победу Красной Армии!» И хоть пламенные слова комсомолки шеф гестапо перечеркнул красным карандашом: «Ликвидировать!», и хоть Елена Смеречук с товарищами пала от гестаповских пуль в Павловском лесу под Станиславом, — ее слова живы. Словно белые птицы, они долетели до нас и полетят еще дальше — в века, в вечность.
Может быть, в первый день освобождения Станислава от фашистов уберег Еленкины слова от огня младший лейтенант Николай Ильин?
Из характеристик того времени:
«…Старший оперуполномоченный отдела борьбы с бандитизмом тов. Ильин Н. П. в бою с бандитской сотней «Сулимы» вблизи села Тязив Станиславского района проявил себя смелым и сообразительным офицером. Бандсотня «Сулимы» уничтожена. Ноябрь, 1944 год…»
Бывало, бесконечными часами, а то и целыми ночами сидел он за столом, всматривался в лицо вытянутого из схрона какого-нибудь «Отавы» или «Сулимы» и спрашивал: «Кто ты такой? Как попал в банду? Во что, в кого верил?»
Ответы были разные. Что-то лепетали о «самостийной» Украине, хотя не могли объяснить, какое оно, это «самостийництво». Кулацкие сынки видели «соборность» сквозь призму классовых интересов; для мелких интеллигентиков «соборность» представлялась полем, на котором произрастали важные и высокооплачиваемые должности. Во имя своих шкурнических интересов они убивали, вешали, жгли.
Это называлось «строить Украину».
Николай Петрович, вспоминая осень сорок четвертого, вздыхает:
— Это был мой первый бой, первая, так сказать, встреча лицом к лицу с националистами. И хоть характеристики тогда писали на меня хорошие, начальник отдела Петр Федорович Форманчук оценивал нас по заслугам, но, признаюсь, я не был доволен проведенной операцией. Мы действовали напролом, надеясь только на свою храбрость и забывая, что перед нами враг хитрый, коварный. До сих пор стоит у меня перед глазами сержант… Ни фамилии, ни имени не помню, судьба свела нас вместе только в этом предрассветном бою.
Преследуя бандитов, мы прибежали к какой-то хате, в которой они скрылись. Я прилег под стеной, выжидая момента, чтобы бросить в окно гранату, а фронтовик-сержант встал во весь рост, крикнул: «Эй, сдавайся, сволочь!» и упал, скошенный пулеметной очередью с чердака.
Я видел на войне много смертей… Были смерти героические; были смерти случайные, бессмысленные — от заблудившейся пули. А вот смерть сержанта поразила меня своей дикой несправедливостью. Ну, как же так? Человек прошел все фронты и гибнет на своей же земле. На рассвете. Это было жестоко… Во сто крат более жестоко, чем на фронте. Так, во всяком случае, мне казалось. Я тогда подхватил пулемет сержанта, ярость застила мне глаза, я косил и косил…
— Наш начальник Форманчук, этот отважный партизан из соединения Федорова, учил нас: «Мудрость борьбы с классовым врагом — не в одном только гневе, не в слепой злости. Если в борьбе с национализмом будем опираться на народ, если будем не только храбрыми, но и мудрыми, то мы гораздо быстрее справимся с задачей, возложенной на нас партией».
Ильин некоторое время молчит, а потом добавляет:
— Наверное, это и была самая высокая мудрость, во имя которой мы ходили между десятью смертями и сотнями пуль. И хотя часто падали от этих пуль, все же новое в Прикарпатском краю побеждало. Я спросил:
— Вы не собираетесь написать книгу воспоминаний о пережитом?
Ильин отмахивается:
— Что вы! И не думаю. Боев, операций по уничтожению фашистских шпионов, диверсантов, националистических банд было немало. Ни в какую книжку их не вместить. Я работал в Станиславе, Рогатине, Галиче, Печенижине. Но ведь не во мне суть. Это была борьба, в которой мне пришлось быть воином. Покойный Форманчук (он умер в прошлом году) любил повторять: «Боремся с врагами, чтобы не мешали новому. А в том новом не только гуцул из Жабье или бойко из Перегинска, а и мы с вами, наши дети…»
Николай Петрович лежал раненый в Черном лесу вблизи села Гутыська. Была ночь, тошнотно пахло свежей кровью. И он злился на себя, что не продумал операцию до малейших подробностей, как это обычно делал и почти всегда побеждал в поединках. Он умел беречь людей, каждая жертва оставляла рубец на сердце… Рубец тот никогда не заживал. А тут бандеровская пуля подкосила его самого. Спешили выкурить из схрона референта районного провода ОУН. Спешили — и не предусмотрели, что бандиты могли быть не в самом схроне, а в кустах вокруг. А тут неожиданно ударил пулемет…
И вот он, капитан Ильин, лежит…
Это было не первое ранение. В сорок пятом напоролся на засаду между Богородчанами и Лисцом. Смерть за ним охотилась, ходила по пятам. И он, капитан Ильин, мог зачерстветь сердцем, проклясть тех, кто выплодил кротов в схронах… Но… Однажды не то в разговоре с пожилым крестьянином, не то на собрании или в беседе с молодыми «ястребками» услышал: «Разве виновато ржаное поле, на котором между колосьями вырос и сорняк?» И не его ли, капитана Ильина, это обязанность — вырвать сорняки, чтобы родила рожь?
Он сроднился с землей, обагренной его кровью. В Черном лесу, под этими молчаливыми Гутыськами он понял, что отсюда никуда уже не уедет, что эта земля навечно стала для него дорогой, родной.