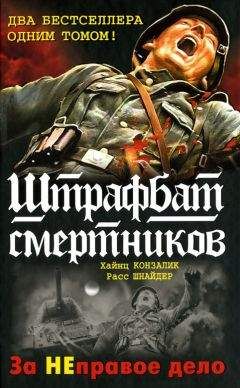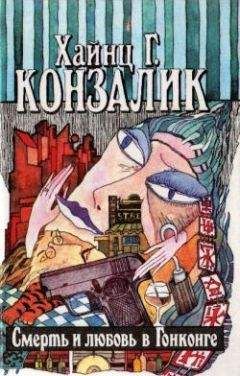— Да бросьте вы! — презрительно отмахнулся Беферн.
— Знаете, как все это называется? Садизм, герр Беферн.
— Можете называть это как вам будет угодно. Ни в одном уставе не записано, что с выздоравливающими надлежит обращаться, как с гражданскими лицами. Кто–то считается выздоровевшим, кто–то выздоравливающим, но и те и другие были и остаются солдатами! Надеюсь, вы все же понимаете, герр Вернер, что пока что нам очень нужны солдаты, не изнеженные нытики, а солдаты, закаленные и привычные ко всему, не знающие пощады к врагу. Вы ведь офицер, неужели вы этого не понимаете? Поймите, герр Вернер, нам предстоит суровая борьба, и долгий путь к окончательной победе над врагом…
— Да перестаньте вы поучать меня! Слушаешь вас, и такое впечатление, что вы как заезженная пластинка — окончательная победа, окончательная победа, окончательная победа…
Тут Беферн почуял, что поймал своего оппонента.
— Вы что же, сомневаетесь в нашей окончательной победе? — угрожающим тоном спросил он.
— Я? — искренне изумился Вернер. — Да что вы? Ничуть.
И подумал про себя: «Какой же ты все–таки напыщенный идиот! Подловить меня вздумал!»
— Ваши высказывания…
— Вот что, Беферн, у меня есть все основания привлечь вас к ответственности. Вы приписываете мне то, что я не говорил и не скажу даже в бреду. И если вы не в состоянии понять, что я хотел сказать, это говорит не в пользу ваших умственных способностей. А говорю я следующее: к чему без конца повторять одно и то же, если всем все и так ясно? Поймите, слова от частого их употребления к месту и не к месту имеют способность обесцениваться. А такое понятие, как «окончательная победа», — свято для нас.
Оглушенный Беферн молчал. Он всего мог ожидать, но не такого. Сжав руки в кулаки в карманах шинели, он, помолчав, произнес, причем просто ради того, чтобы не молчать:
— Ну, хорошо, хорошо. Если в этом мы с вами едины — почему, скажите мне, почему вы так упорно дистанцируетесь от меня?
Вернер, поднявшись, вплотную подошел к Беферну и немигающим взглядом посмотрел на него.
— Наша идеология помимо прочего включает и уважение к человеку, герр Беферн. Вы — плохой национал–социалист. Я не состою в партии, но все же никогда не позволил бы себе того, что позволяете вы. Вы мне отвратительны. То, как вы поступаете с теми, кто был ранен, кто пролил кровь за Германию, пусть даже будучи в штрафбате, мягко выражаясь, подлость. И мне стыдно носить ту же форму, что и вы. Но вы не только никуда не годный национал–социалист. Вы просто свинья, садист и свинья!
Побелев как мел, обер–лейтенант Беферн без единого слова вышел из хаты, а выйдя, какое–то время стоял, пытаясь осмыслить произошедшее. Его трясло. И это он услышал от Вернера? От чуть ироничного, но никогда не выходившего за рамки Вернера. Да его устами сейчас говорил Обермайер! Он рассуждает в точности так же, как все эти проклятые трусы, те, из–за которых германский вермахт утратил непобедимость первых лет. Уж не разваливается ли офицерский корпус на куски? Как это он сказал? Никуда не годный национал–социалист? И это мне? Мне?! Назвать никуда не годным национал–социалистом меня? Того, кто торчит в этом аду под Оршей? Кто ни на минуту не усомнился в правоте нашей идеи? Кто… Откуда эта пропасть между нами?
Подавленный происходящим, Беферн медленно побрел назад к саням. В нем зрела решимость доказать свою преданность идее национал–социализма. Он понимал, что он был не одинок, что за ним стояли сильные люди, и был готов всего себя бросить на чашу весов победы, истинной, конечной победы не только над внешним, но и над сумевшим внедриться в собственные ряды внутренним врагом.
— В батальон! — срывающимся от злости голосом скомандовал он водителю.
Вернер тут же связался по телефону с Обермайером и рассказал о случившемся. Обермайер молча выслушал своего товарища, потом Вернер услышал в трубке искаженный треском голос:
— Да ты рехнулся, Вернер!
— Фриц, я больше не мог этого выносить!
— Послушай, Вернер, мы обязаны сохранить трезвую голову, мы не имеем права давать волю эмоциям. Что будет с нашими подчиненными, если нас с тобой вдруг… Если мы с тобой в один прекрасный день тоже окажемся на их месте в каком–нибудь из штрафбатов?
— Знаешь, если об этом постоянно думать… — с трудом сдерживаясь, произнес в ответ Вернер.
— Но как мы можем забывать об этом?
— Я еле сдержался, чтобы не врезать ему по физиономии.
— Клянусь, это я как раз могу понять. Успокойся… Ты сегодня ко мне не собираешься?
— Посмотрю.
— Ну тогда до скорого. Ничего, мы что–нибудь придумаем. В конце концов, с этим недоноском мы уж как–нибудь разберемся!
Положив трубку на аппарат, Вернер задумчиво посмотрел в окно на уже исчезавшие из виду сани.
Сани мчались через темноту. Повалил снег, мокрые хлопья превратили все вокруг в темно–серое месиво, сквозь которое с трудом проглядывали темные очертания поднимавшегося на горизонте леса. По правую сторону от дороги через большие интервалы мелькали припорошенные снегом столбики, по которым был проложен телефонный кабель, ежедневно обрываемый диверсантами противника. Шванеке обеими руками уперся в ручку, стараясь удержаться и время от времени бранясь вполголоса. Сани немилосердно трясло на снежных ухабах, казалось, еще один такой ухаб, и они развалятся. Висевший на шее у Шванеке автомат молотил его по животу. Двигатель под сиденьем завывал как бешеный. Сколько он еще выдержит все это? Внезапно впереди мелькнул чей–то силуэт. Низкорослая, укутанная в тулуп фигура, очень похожая на него самого, неясно вырисовывалась в снежной мгле. Когда сани приблизились почти вплотную, человек поднял руку. Шванеке притормозил, потом выключил двигатель. Сани, пройдя несколько метров юзом на скользкой дороге, остановились. Шванеке выбрался наружу и, на ходу снимая автомат, неторопливо побрел к дожидавшемуся его незнакомцу. Но тут, узнав, кто это, замер на месте как вкопанный. Подняв автомат, он навел его на темный силуэт.
Петр Тартюхин стал поднимать руки вверх, желая засвидетельствовать, что, мол, безоружен.
— Вот и ты! — злобно сузив глазки, прошипел он.
По спине Шванеке поползли мурашки, и он невольно стал озираться. Вокруг лежали бескрайние, покрытые снегом поля. Тартюхин ухмыльнулся.
— Никого, кроме нас, братец… Одни мы с тобой здесь, — произнес он, подтвердив сказанное жестом. — И никто нас здесь не увидит…
— Ладно, — кивнув, ответил Шванеке.
Собственный голос вдруг показался ему чужим. Он понимал, что предстоит схватка, он был готов к ней, давно готов. Как понимал, что одним лишь нажатием на спуск мог запросто отделаться от своего врага. Но — нет. Это было бы слишком легко. Нет, здесь нужно было действовать по–другому. И Шванеке чуял, что и Тартюхин не ждет от него просто пули в живот.