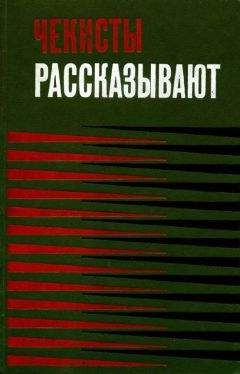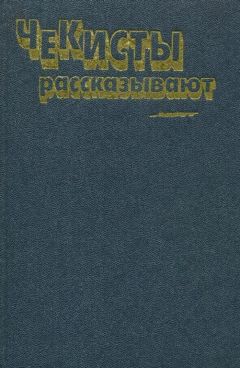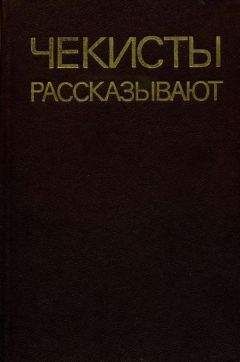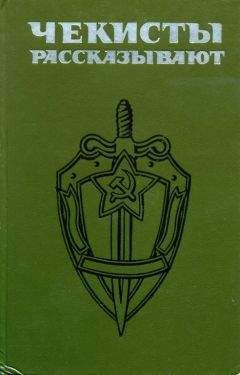— Из Рязани? — переспросил вожатый. — Очень интересно! Скажите, Владимир Петрович, что вы думаете о подвиге Зои Космодемьянской?
С автоплощадки был очень хорошо виден памятник. В полный рост девушка в телогрейке, с винтовкой за плечом. До меня вдруг дошло, что «обедать у Зои» означало обедать в столовой возле памятника Зои Космодемьянской. Но это была лишь догадка. У меня не было уверенности, что это ей памятник. А тем более я не знал, в чем заключается ее подвиг. Я не мог сказать, что я ничего о ней не знаю, — это сразу вызовет недоумение не только у пионеров, но и у Соколова, а это мне грозит полным и немедленным разоблачением.
Микрофон смотрел мне в рот.
— Подвиг... — медленно выговорил я, изобразив на лице раздумье.
— Одну минутку! — перебил меня вожатый. — Мы уточним вопрос. Что вы знаете о ее подвиге?
Холодный пот простегнул змейкой мне спину, острая боль пронизала мне сердце. Но я не смел, не смел вдаваться в панику. А что делать? Ключи от зажигания в кармане у Соколова. Выстрелить в него, выхватить ключи и, пользуясь замешательством, в машину — и ходу до ближайшего леса. А лес недалеко!
С трудом я выдавливал из себя ничего не значащие слова, которые были для меня хотя бы короткой отсрочкой гибели.
— Подвиг — удел избранных... — мямлил я, — не умею я говорить.
Спасло меня вмешательство Соколова.
— По-моему, — включился он неожиданно, — это было в декабре сорок первого года, перед Новым годом! Партизанский отряд перешел линию фронта, чтобы уничтожить военные объекты перед нашим наступлением... Я так говорю?
Микрофон мгновенно отодвинулся от меня, теперь был нацелен на Соколова.
— Все так. Дальше?
— Здесь неподалеку деревня Петрищево, — продолжал Соколов. — В Петрищеве Зоя подожгла конюшню и склад с оружием, но ее схватил немецкий часовой... Ее зверски пытали, она не дала никаких показаний, и ее повесили в Петрищеве... Было ей восемнадцать лет...
Я отступил, замешался в толпе и скрылся за машиной.
Вот когда я по-настоящему испугался. Испугался я не провала. Передо мной впервые разверзлась пропасть, разделявшая меня и вот этих пионеров. Я приехал сюда делать революцию, мои наставники убеждали меня, что мы работаем на будущее, на них, вот на этих пионеров. Что же мы противопоставляем их идеалам, идеалам этой девочки в телогрейке с винтовкой за плечами, которая сложила голову за будущее, за свободу?..
— Когда вы усомнились в справедливости ваших намерений? — спросил меня следователь.
Я, не задумываясь, сразу ответил:
— У памятника Зое...
Да, там я по-настоящему испугался и задумался. Мои наставники ничего не сообщили мне о Зое Космодемьянской. Упущение в подготовке к работе в Советском Союзе? Упущение. А как они могли исправить это упущение? Воспитывая меня в ненависти ко всему советскому, разве они могли рассказать мне правду о советских героях? Это вынужденное упущение.
Передо мной стояла задача: обучиться у Соколова совершать дальние рейсы, осмотреться, чтобы можно было одному предпринимать такие поездки. И я, отбросив раздумья о далеком, обратился к близкому.
К вечеру где-то на подъезде к Смоленску, возле тихого хуторка, Соколов остановил машину, сказал:
— Мне здесь надо занести посылочку!
Крайний дом — невзрачная избенка, крытая соломой. Изломанный старый вяз у крылечка. Пустые грачиные гнезда в его разлапистых ветвях. Камень вместо ступеньки.
Нам долго не открывали. Наконец послышались шаркающие, очень медленные шаги.
Соколов крикнул:
— Бабушка Матрена! Это я! Володя! Откройте!
Рука шарила в поисках засова. Что-то это вдруг мне напомнило? Далекое-далекое детство. Я никогда этого и не вспоминал. А тут вот выплыло. Бабушка моя. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Бабушка ходила, так же шаркая ногами, не в силах оторвать их от пола. Полуслепая, она брала все на ощупь, опиралась руками о стены, о стол, о печку, о деревянные косяки. Дохнуло на меня прошлым, теплым детством моим...
Открылась дверь. На пороге согбенная фигура в черном. Вечерело уже, не очень различимы были черты лица, но в глаза бросились глубокие морщины, сжатые губы, потухший взгляд.
— Слышу, Володюшка! Спаси бог!
Соколов протянул ей сверток.
Матрена приложила ладошку к глазам, ее взгляд остановился на мне. Я кивнул головой ей, здороваясь. Но она никак не ответила на мое движение. Она или чувствовала мое присутствие, или различала мои смутные очертания.
— Володюшка! — Она коснулась руки Соколова. — Ты один, или мне кажется?
— Со мной мой товарищ! Тоже Володя! Кудеяров Володя! Я ему накажу, чтобы он всегда к тебе, бабушка, заезжал!
— Ты подойди, сынок! — позвала она меня.
Я подошел. Бабка провела по моему лицу рукой.
— Живой человек! — утвердилась она. — А они, Володюшка, опять ко мне приходили. Только вот перед тем, как тебе приехать! Я под вязом стояла на закате солнца. Когда солнце светит, я его свет на небе различаю. Гаснуть оно начало. Повернулась я к дому, а они у крылечка стоят. Старшенький ногу на камень поставил, вроде на порог собрался ступить. И слышу, промеж собой шепотком разговаривают. Прислушалась, голоса различаю. У каждого свой голосочек, а вот что говорят, никак не пойму. Не слышу, и только! Замерла я и не шевелюсь. Знаю, не раз так было, только пошевелюсь или слово молвлю, они сразу и уходят. Колыхнутся и растают в воздухе. Я стою тихо, они у порожка шепчутся. А тут солнце присело, и окошко у меня светом вспыхнуло. Загорелось, как на пожаре, окошко, а на них свет упал. Каждого в отдельности вижу.
По морщинам побежали слезы.
— Ушли, как тебе приехать! Спаси тебя Христос, Володюшка, старую не забываешь.
Сгустились сумерки, но еще были различимы и лес на взгорке, и домики в деревне, блестела лента Днепра.
Соколов от волнения не мог говорить; когда мы подходили к машине, пояснил:
— Было у нее четверо сыновей и муж. Все ушли на войну. — Он с трудом подбирал слова. — Все ушли, и хоть бы один вернулся...
Октябрь.
По земле прошлись первые заморозки. Зарделись, набрали красноту ягоды боярышника, шиповника и рябины.
Клен покраснел, березки пожелтели, ели и сосны про-стегнули это осеннее буйство огня стежками неумирающей зелени.
Я шел с Бреста на Минск, с Минска на Смоленск. Колеса, не уставая, наматывали ленту асфальта; бесконечная дорога, бесконечные мысли. Выпадали минуты, когда я забывал о своей жизни на чужбине, забывал обо всем, что меня связывало с тем миром, мной владели сегодняшние немудреные заботы. По дороге из Бреста заехать к бабке Матрене. Это и для меня стало обычным. В Смоленске я купил мягких батонов, пакет сахарного песку и пачку какао. Конфет она не употребляла, любила к чаю варенье. Нашел я банку варенья из черноплодной рябины.