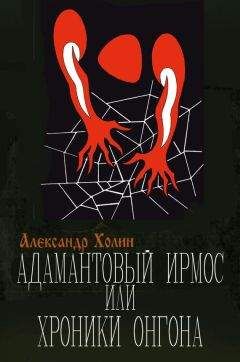– О, да! – удивлённо поднял бровь поэт. – Вы знаете Николая Васильевича? Что ж, это похвально. Давеча прочитал я его сочинение «Невский проспект» и с большим удовольствием. Кажется, всё может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Ну да, авось, Бог вынесет.
– Так правду бают, что вы на балу и познакомились? – не отставал Никита. – И в местах никак не предназначенных для танцев?
Пушкин внимательно посмотрел на любопытствующего собеседника и как-то странно улыбнулся:
– О сей казуистике много сплетничали. Да и ныне… Николай Васильевич, упившись на рауте, принялся распевать гимн Василия Андреевича в мужской кабинете, откуда мы его и попросили удалиться. Ну, да не об том речь.
– Простите, Александр Сергеевич, я положительно не знал и не желал вас обидеть своими расспросами.
– Ну что вы право, – пожал плечами поэт. – Сия казуистика не столь заслуживает внимания…
– Нет, нет. Я где можно, – перевёл Никита разговор на более безопасную тему, – читаю ваши сочинения и нахожу их превосходными.
Это был верный ход: к лести в подлунном никто неравнодушен и великие исключения не составляют. Пушкин, совсем было собравшийся уходить, при этих словах снова повернулся к Никите и, посмотрев ему прямо в глаза, спросил, жестикулируя при этом пальцами правой руки, затянутой в перчатку:
– Надеюсь, в моих произведениях вы находите тот огонь, ту полноту, которая для них желательна? Ведь, не передав в строках огня души, не сможешь донести огонь мысли и наоборот.
– О, да! Именно огонь души чувствуется при прочтении. И я с удивлением читаю на вас достославные критики.
– Почему же с удивлением? – Пушкин опять поднял бровь. Видимо это была его неотъемлемая привычка. – У одного из наших известных писателей спрашивали, зачем не возражает он никогда на критики? – критики не понимают меня, отвечал он, – а я не понимаю критиков. Если будем сердиться перед публикой, вероятно, и она нас не поймёт, и мы напомним старинную эпиграмму.
Глухой глухого звал на суд судьи глухого.
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!».
– Помилуй! – возопил глухой тому в ответ:
– Сей пустошью владел ещё покойный дед!
Судья решил: «Почто идти нам брат на брата?
Не тот и ни другой, а девка виновата!».
Можно и не удостаивать ответом своих критиков, когда нападения суть чисто литературныя и вредят разве что одной продаже разобранной книги. Но не должно оставлять без внимания, по ленности или добродушию, оскорбления личныя и клеветы, ныне, к несчастью, слишком обыкновенныя. Это и вас касается в будущем.
– Я запомню ваш совет, – рассудительно заметил Никита. – А вот дозвольте ещё полюбопытствовать про ваши афронты с Николаем Васильевичем. Об этом много говорят, мне не хотелось бы сплетен. Отчего вы, так чутко относившиеся друг к дружке, вдруг на глазах общества разминулись без видимых причин. Такого обычно не случается в обществе.
Пушкин покачал головой:
– Извольте, я отвечу. Не должно вам сплетен слушать, дабы вы в столицу совсем не для этого прибыли. Так вот. Будучи совершенно чужд ходу деловых отношений с интересующим вас человеком, я с болью узнал, что Николай Васильевич оделькопничает и воейковствует, перепечатывая мои мысли в своих произведениях. Чего вам никоим разом не советую. Он-де провозглашает литературныя мысли моим подарком ему к Великой Пасхе, скажем, или же на Масленицу, что, по сути, одно и то же вольнодумство.
А у Николая Васильевича вы найдёте разныя произведения, иной раз совершенно разнородныя, но это его дети, он любит их. Entre nous sois dit,[28] он довольно талантлив. Я даже полюбил его за провинциальную простоту, только…
Никита с интересом слушал собеседника. Встреча ничего не значащая. Более чем случайная. И вдруг знаменитый поэт беседует с ним – никем, по сути, – раскрывает свои переживания, мысли.
…– только простота эта оказалась наигранной. Да вот ещё. Слыхали ль вы, как он своего «Ганца Кюхельгартена» спалил? Весь тираж!
Никита кивнул:
– Гоголь думал тогда, что его книгу будут покупать нарасхват, драться из-за неё в очереди, но никто во всём Петербурге даже не заметил выхода в свет такой нужной любому умеющему читать книги. Вот и скупил Николай Васильевич весь тираж и с удовольствием святотатца сжигал роман у себя в комнате. От тиража чудом уцелели только крохи. Верно, это была первая попытка предать созданный опус всепожирающему огню.
– Так не один он огоньком балует, – лукаво улыбнулся Пушкин. – Я, вишь, тоже грешным делом по младости произведения свои…
– Сожгли?! Но зачем? – вскричал Никита. – Вы же создавали воистину гениальные произведения! Кому нужен такой афронт?
– А чтобы критикам кус не достался, – игриво продолжил Александр Сергеевич. – Ну а коль будете когда с Николай Васильичем в беседах меня поминать, поклон ему. Только мыслями своими не делитесь. Уж он их использует, будьте покойны, стило у него мастерское.
С этими словами Пушкин поклонился и скрылся в подъезде особняка, а Никита долго ещё стоял на месте, переваривая услышанное и сопоставляя в уме факты истории. Было ли так, как сказал его собеседник, или эта встреча с поэтом сочинена Ангелом? C'est symbolique, n'est ce pas,[29] от него можно ожидать неожиданностей всяких, в любом количестве и под самыми изысканными соусами. Хотя, с другой стороны, всем известна ссора Пушкина и Гоголя, о причине которой столько догадок, так что… а что?
Не придя ни к какому выводу, Никита снова двинулся по улице, изменившейся вдруг неузнаваемо: тёмные свинцовые облака насели на город, чуть не цепляясь боками за крыши вмиг почерневших дворцов. От весёлой толпы сюртуков и салопов не осталось следа. Улицы опустели, лишь кое-где проскальзывала плоская тень запоздавшего путника да цокал в неприютном далеке одинокий экипаж.
Сумерки. Непогодь. Тревога. Безысходность. Достоевский…
Гулкие шаги раскалывали булыжную мостовую, а ниоткуда взявшийся ветер разносил их по опустевшему городу. Звук шагов носился, отскакивая от домов, дворцов, соборов, словно послушный теннисный мячик, или, скорее, как вконец затравленный волк меж высверкивающими в темноте пламенными флажками, дико озираясь: нет ли спасения?
Спасения не было. Мостовая от грохота шагов трескалась. Казалось, змееобразными трещинами покрывается всё обозримое пространство, создавая картину реального апокалипсиса. Весь мир на глазах просто раскалывался на части, и темнота сразу же пыталась заполнить собой украденное у природы пространство. Трещины увеличивались и скоро целая базальтовая глыба, с сохранившимся ещё кое-где булыжником мостовой, рухнула вниз, в бездну, в болота, на которых возник город.