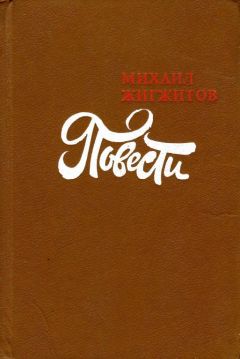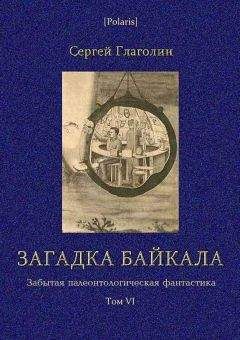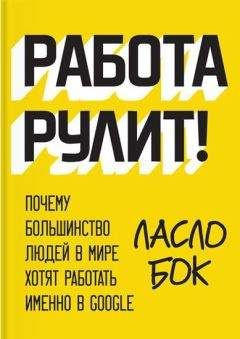А Виктору хоть бы что! Идет себе спокойненько, движения у него размеренные, ловкие, без усилий. Чего ему потеть!.. Такие же ровные, четкие движения, Бимба видел, делает кругленькая медная чашечка на часах, висящих в доме Зенфрана. «Идет на лыжах — будто плывет на лодке вниз по Баргузину… с ветерком… Эх, хорошо! Мне бы так научиться — всем браконьерам бы пришел конец, — подумал Бимба. — Ох, однако, он шибко мастер… А еще, говорят, есть Хабель, есть Остяк… Против них нет на белом свете лыжников. Те, говорят, летают со скалы на своих шаманских лыжах. Умеют заманивать стражников под снежный обвал. Наверно, эти люди — шаманы. Черные мысли заставляют их воровать соболей в заповеднике, а мы мучаемся из-за них. Зенфран говорит — придет время, стражников не надо будет — люди перестанут браконьерить… Ой-ёй, однако, этому не бывать… Ох, когда же переведутся худые люди… Хара шубун[16] — их отец, а мать из змеиного рода… попробуй изведи их…»
Бимба, взглянув вперед, увидел лишь одни толстые стволы хвойных деревьев, а Виктор ушел уже далеко. «У-у-у, бохолдой[17], однако; много отстал!..» Бежит Бимба, падает, отряхнувшись снова бежит. Вот и солнце закатилось. Быстро сгущаются сумерки. Тревожно на сердце у Бимбы. Он еще быстрее старается бежать. «Эх, худой я стражник. Верно тетка ругает меня. Баран мне пасти надо, а не браконьеров ловить… Шкуру свою оставлю где-нибудь на сосне… Дурак-дурак».
Наконец между деревьями сверкнул огонек. «Витька уже чай сварил, а я ползу, червяк несчастный», — ругает себя Бимба.
Подойдя к огню, он снял лыжи и виновато глянул на товарища. Встретив приветливую улыбку, облегченно вздохнул.
— У-у-у, кое-как догнал тебя.
— Чо, умаялся, горемыка? Снимай понягу-то… Вывязывай куль, доставай свою большую чашку и грей брюхо чайником, а спина согреется от огня.
— О, это я мастер! Чай пить, дрова рубить. Бимбушка может.
— Эвон срубил, пока было светло, две сушины; отдохнем, да надо раскряжить их.
— Аха, паря, ночь будет холодная… дрова много жрет огонь…
Мало спал Бимба в ту ночь. Через час-другой подбросит дров, нарубленных двухметровыми сутунками[18], закурит, чуть-чуть вздремнет и снова кочегарит. «Пусть Витька спит. Силы будет больше, хищников догонит, — рассуждал он, заботливо посматривая на спящего товарища. — А я-то уж…» Бимба, тяжело вздыхая, качал головой. Живые карие глаза печально глядели на яркий огонь.
Когда над темным горизонтом неба начало чуть-чуть отбеливать, а утренняя звезда, весело подмигивая, сообщила о близком конце холодной, бесконечно долгой ночи, Виктор приподнялся и сонными глазами окинул Стог. Разглядев ссутулившуюся у костра фигуру Бимбы, спросил:
— Ты, паря, спал ночь-то?
— Спала хорошо. Пей чай, да ходить будем.
— Ты уж и чайку сварил?.. Вот молодчина!
К обеду второго дня стражники подошли к крутой скалистой горе. У небольшого незамерзающего родничка они обнаружили тлеющий костер. Браконьеры, видимо почуяв неладное, собирались очень поспешно. Об этом свидетельствовала глубокая зеленовато-желтая воронка в снегу от вылитого горячего чая. Валялось несколько кусков сухарей, про которые в тайге уважительно говорили «сухарики-сударики», и упаси бог, бросаться ими — великий грех. А тут как прижало — голову потеряли.
— Э-э-эх, черт возьми, улизнули! — Виктор от великой досады неистово зацарапал затылок. Затем, подумав, решительно тряхнул кудрями.
Внимательно осмотрев лыжи Бимбы, сбросил свою понягу.
— Бим, вижу, твои лыжи добротные… да и сам ты крепкий парень. Бери мою понягу и иди не спеша по их чумнице… Поди справишься с двумя-то понягами?
— Ха! Четыре поняги тащить буду! Сила е!
— Вот и молодчина! А я без поняги-то мигом догоню их. Дергану через утес и свалюсь им прямо на плечи. Понял?!
— Поняла-поняла! Только смотри… От худых людей худой дело жди… Хитрить нада мала-мала…
— Не бойся, братуха!..
Их двое. Рыжий и черный. У рыжего единственный, зеленый с крапинками, кошачий глаз прячется за лохматой бровью. Руки в собачьих рукавицах трясутся мелкой дрожью. Виновато сердце. Страх сжимает его до боли.
Второй — маленький, щупленький, с хитрыми узенькими глазками. Покрытое грязью бронзовое лицо плотно замкнуто — не прочтешь, что на его душонке творится.
Уже с соседнего склона прошумели чьи-то лыжи. Неизвестный лыжник с поразительным упорством и быстротой настигал двоих.
«Похоже, летит сам Хабель… Нешто Сватош сманил его к себе? — проносится в голове рыжего. — Да кто бы ни был, стукну — и вся игра…»
Рыжий, воткнув свою ангуру, решительно снял с поняги берданку. Черный в испуге замахал рукой.
— Ой-ей-ей! Омелька, нельзя убиль, грех болса.
— Цыть, тунгусская собачонка, хошь самого пристрелю!
— Пугать не нада. Джоуль смерть бояться нету. Стражник семья имеет… ребятишка…
— Уходи, тварина… бусурмана, шамана и твою мать!
— Кака ти охотник? Сера волка зла! — Эвенк окинул товарища сердитым осуждающим взглядом, плюнул и бросился прочь.
Пройдя еще немного по чумнице сбежавшего Джоуля, рыжий залег за громадный вздыбленный выворотень. На один из щупальцев-корней положил ствол винтовки и начал прощупывать цель.
А цель быстро приближалась.
* * *
Далеко впереди раздался выстрел. Бимба вздрогнул. Неприятно заныло сердце. «Пуля попала в цель… Кто же из них упал?.. А Виктор-то не стреляет в человека… Уж в крайности сначала в воздух, а потом…» — проносятся тревожные мысли.
Вихрем летит Бим по крутому склону, где браконьерская чумница вьется меж скал и деревьев. «Смотри-ка, не падаю… Это оттого, что некогда… Эх, лететь бы надо, да крыльев нет!» Бимбе кажется, что он бежит бесконечно долго. Проклинает себя, сердится на неуклюжие широкие лыжи, которые шибко-то не разбегутся, где надо.
Наконец он увидел уткнувшегося головой в снег человека.
Сердце сжалось, стало трудно дышать… Знакомая серая солдатская шинель, которую Виктор подрезал, чтоб не мешала при ходьбе. «Брат, тебе худо есть?!» — бросился к другу. Схватил за плечи. Приподнял. Большие голубые глаза безжизненны. Приложился к груди. Сердца не слышно. Руки друга стали деревянными, холодными… Бимба хотел что-то сказать, но горло, сжато. Глаза сквозь слезы ничего не видят.
Тяжело поднявшись, Бим проверил ружье и с разбега бросился в ущелье вслед за браконьерами. Добежав до границы заповедника, он остановился. «Э-эх, ускользнули змеи!.. Но… но найдут негодяев добрые люди…» Упрямое монгольское лицо, словно высеченное из темно-желтого гранита, выражало печаль и непримиримую враждебность. Потоптавшись на месте, круто развернулся и покатился назад.