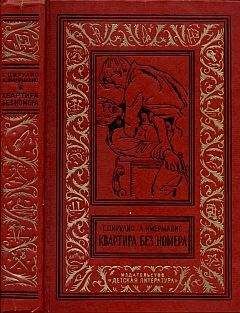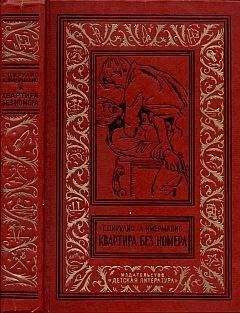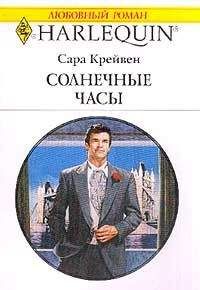– Вот об этом я и думаю. Возьмешь у меня бомбу. Я буду сидеть у Кунцендорфа на веранде. Всё!… – Гром посмотрел на часы: – Еще одну трубку, и пойду, некогда.
Он набил трубку на этот раз махоркой, выкурил до конца и энергично поднялся.
– Ну, ничего не поделаешь. В случае, если Лихач подойдет, передай ему, пусть шпарит бегом к Черному Петеру. Он знает. Только боюсь – ему уже не поспеть: всего час остался.
– Черный Петер? Это тот маленький жестянщик, что всегда приходил к брату? – поинтересовалась Дина.
– Он самый! Ты ведь его знаешь, и он тебя тоже! Да тебя мне сам бог послал! – обрадовался Гром. – Пойдешь к нему и передашь от меня привет, скажешь: «Не бывать грому без молнии», заберешь от него орехи – там штук шесть будет, навряд ли больше. Черный Петер никого постороннего к себе не впустит, да и не имеет права пускать, а я, сама видишь, еще ребятам все растолковать должен. Ровно в двенадцать жду в Верманском… Но если боишься, так скажи прямо…
Дина не дала ему докончить:
– Где он живет?
– Деревянный домишко в самом конце дамбы. Постучишь в ставень второго окна. – Гром поднялся. – Ну, счастливо!
За пятнадцать минут Дина управилась, забежала домой, оставила там чемодан и теперь шагала по Балластной дамбе с висевшей на руке картонкой. Она еще не чувствовала тяжести бомб, однако на сердце было тревожно. Не прошло и двух часов, как она в Риге, а вот уже выполняет боевое задание. Дине казалось, что она вовсе не покидала этот город, охваченный революционной борьбой. Жизнь в Льеже с ее мелкими невзгодами сейчас представлялась далеким сном, однажды увиденным и исчезнувшим навсегда. Ее настоящее место здесь, в боевом строю рядом с товарищами. Однако несправедливо было бы совсем вычеркнуть из жизни месяцы, проведенные в Бельгии, – там она нашла свою любовь, Эрнеста!
Вспоминая эти неповторимые дни, Дина счастливо улыбалась. Тогда можно было предаваться мечтам… А сейчас она в Риге, выполняет боевое поручение.
Что сказал бы Атаман, знай он о том, что ей предстоит? Дина внезапно почувствовала уверенность, исчезли девичьи тревоги, никчемные сентиментальные мудрствования. Ведь Атаман тоже не стал бы волноваться.
Дине не пришлось долго стучаться у окна. Наверное, Черный Петер через щелку в ставнях узнал сестру Фауста, потому что, не дожидаясь пароля, он отворил дверь и пригласил войти. Девушка осмотрелась и в первый момент почувствовала некоторое разочарование – мастерская как мастерская. На полу валялись старые кастрюли, сковороды, тазы и молочные бидоны, некоторые с серебристыми пятнами свежего олова, иные с прогорелыми дырами. Примуса, жестяные трубы, разные ржавые банки дополняли эту хаотическую картину. И сам жестянщик, невзрачный и заросший щетиной, суетившийся среди всего этого хлама, ничуть не походил на таинственного мастера.
– Есть вести от Фауста? – заговорил Черный Петер неожиданно красивым, звучным голосом, благодаря которому в хоре общества «Аусеклис» он пользовался славой лучшего баритона.
– Я от Грома.
Черный Петер вскочил и засеменил мелкими шажками по захламленной комнате. Только теперь девушка заметила, что он хромает.
Перехватив взгляд Дины, Черный Петер стал ей рассказывать:
– Теперь-то уж совсем хорошо, вчера даже на спевку ходил. Ведь почти целых два месяца в больнице пролежал. А могло дело хуже обернуться, не окажись там хороший лекарь, такой, что язык за зубами держать умеет.
– Как это случилось? В стычке?
– Какое там! Прямо здесь, в моей хибарке, когда бомбы заряжал. Одну начинил, взялся за другую, а она ка-ак ахнет, проклятая… Я написал Фаусту – пускай, не мешкая, шлет новый состав, не то со старым никакого спасу больше нет. Покамест динамитом обхожусь. Да только, известное дело, его тоже просто не добудешь. Что солдатики достанут да притащат, вот и весь мой запас. Вчера, к примеру, лишь на пять орешков хватило…
– И я за тем же самым, – наконец Дине удалось перебить мастера. – Гром просит молнию, сколько есть!
– Забирай, забирай! – со вздохом отозвался Черный Петер. – Всего пять орешков осталось. Кто первый приезжает, тому первому и молоть. Только глядите там, в Верманском, без особой нужды добро не переводите!
Оркестр исполнял неизвестное Шампиону произведение, захватившее его своей мелодией. Страдания и тоска звучали в этой музыке. Постепенно лицо Русениека прояснилось, на нем появилось мечтательное и немного грустное выражение, взгляд согрелся. Его стиснутые в кулаки пальцы то сжимались, то разжимались в такт музыке. В эту минуту он словно позабыл обо всем, что его окружает. Зато от внимательного взгляда Шампиона не ускользнуло, что в парке и вокруг него назревают какие-то события. С Елизаветинской, с улиц Тербатас и Паулуччи группами приходили люди, совсем не похожие на гулявшую в парке публику. Из политехникума выбежали студенты и смешались с толпой рабочих и ремесленников.
У Шампиона раздулись ноздри. Его прославленный нос, которому был знаком запах гари пылающих бурских поселков и который вдыхал пороховой дым мятежей в Южной Америке, наконец учуял, что близится одно из тех событий, ради которых он оставил Париж.
Он нетерпеливо дернул Русениека за рукав:
– Что это?
– Эмиль Дарзинь, – ответил Русениек, еще находясь под очарованием музыки. – Молодой, а сколько в нем силы! Когда слушаю его, забываю обо всем!
– Да нет же! Посмотрите, что делается! – волновался Шампион.
– Вам везет, Шампион! – сказал Русениек, оглядевшись отрезвевшим взглядом. – Похоже, что-то серьезное…
Через несколько минут концертная площадка оказалась в центре плотной толпы людей. Звуки вальса резко оборвались. На эстраду вскочили несколько человек. Музыканты побросали инструменты и кинулись кто куда. Капельмейстер, вспомнив о своих офицерских погонах, попытался было протестовать, но несколько сильных рук стащили его вниз. Над толпой вскинулись два знамени. Алое, с надписью: «Долой самодержавие! Да здравствует революция!» – выглядело ветераном многих уличных боев. Зато черное, со словами, написанными белыми буквами: «Слава павшим! Проклятие убийцам!» – казалось совсем новым. На возвышение между знаменами вскочил студент и, распахнув китель, начал взволнованную речь. Казалось, будто страстные, бурливые слова срывались не с губ, а исходили прямо из его переполненного гневом сердца.
В это мгновение очнулся городовой. Пытаясь на бегу вырвать из ножен шашку, он ринулся вперед, в толпу. Однако украшенная перстнями рука, только что игравшая золотой подковкой, подала ему еле заметный знак. Городовой заторопился к выходу из парка.
К своей досаде, Шампион не понимал ни слова. Почему слова студента вызывают у всех такой бурный отклик, что многие даже выскочили с пивными кружками в руках из ресторана? Возгласы негодования заполняют каждую паузу в речи студента!