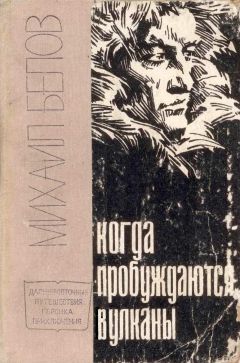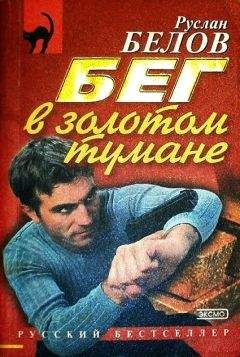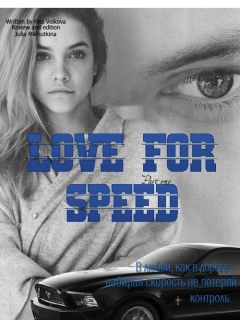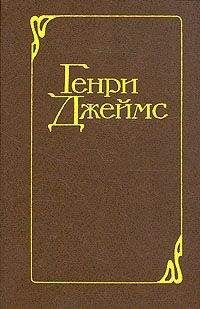Расставшись с Кречетовым, я в ту же ночь на почтовом катере уехал в район, через день самолет доставил меня в Петропавловск, а отсюда с двумя работниками уголовного розыска на теплоходе «Русь» я выехал в Анадырь — административный центр Чукотского национального округа. Думал, пробуду три — четыре месяца и вернусь. Но дело, которое мы расследовали, оказалось запутанным, пришлось выезжать в Прибалтику и на Кавказ. Закончив следствие, я взял отпуск и в Усть-Камчатск вернулся только весной следующего года.
Мой начальник — районный прокурор — обрадовался встрече, хлопнул меня по плечу и усадил на диван. Чудак такой. Рассказав ему все, что было со мной занимательного, я, в свою очередь, принялся расспрашивать его о местной жизни, спросил и о Кречетове. Мой собеседник вздохнул.
— Признаться, — сказал он, потеребливая усы, — поверил я тогда тебе и поспешил. А зря…
— То есть, как зря? Заключение о прекращении дела мною же было подписано на основании показаний свидетелей.
— Дело затребовали в область, а вскоре Кречетова арестовали и увезли в Петропавловск. Его признали виновным в гибели Лебедянского и осудили…
Наступило молчание. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков теснилось к берегу реки, а дальше синела Лимровская сопка в своем белом берете.
— Почему вы не опротестовали, Михаил Иванович? — тихо спросил я.
— Напрасная проволочка. В нашем следственном материале не было показаний Баскакова.
— Не было?
— Не было.
Телеграмму Баскакова я подшивал к делу — хорошо помню. Но куда она могла деться? Я терялся в догадках. Вытащить ее никто не мог, да и кому она нужна? Может, потерялась? Странно, очень странно.
Солнце опускалось на покой за горные вершины, и беловатый туман растекался по долине, когда в дверь кабинета громко постучали. Вошел начальник районной милиции, лихой и шумный человек, а вслед за ним — сухонький старичок и малец лет десяти.
— Данилка! — невольно воскликнул я.
Он робко взглянул на меня и потупил глаза. На нем была старая рваная куртка и тесные вытертые штаны; на босых грязных ногах цыпки, в трещинах запеклась кровь. Сердце мое сильно билось, и я почему-то с ненавистью посмотрел на благообразного старичка.
— Вот сукин сын, — возбужденно говорил начальник районной милиции прокурору. — Как только рука поднялась на ребенка…
Я узнал историю Данилки. После ареста Кречетова его жена распродала все хозяйство и уехала с Колбиным в Москву. Оттуда она не вернулась. Данилка остался один. Жил где придется. Месяцев шесть назад его взял к себе кладовщик рыбной базы. Он оказался скверным человеком. Начальник районной милиции случайно увидел, как он избивал мальчика. Данилка стоял посредине двора, вытянув руки по швам, а кладовщик методически хлестал его по щекам. Вся семья молча наблюдала эту сцену, — видать, не впервой такое.
— Как хотите, а я оформлю материал на этого сукиного сына, — решительно заявил начальник районной милиции.
Он увел старичка за собой, а Данилку я взял к себе. С тех пор он у меня.
Пришел ответ Баскакова на мое письмо. Странный ответ. Свое вторичное показание против Кречетова он объяснял состоянием транса, в котором якобы находился после тяжелых испытаний в кратере вулкана. «Я жестоко наказан своей совестью, — писал Баскаков. — Если мои показания, как вы утверждаете, явились веским материалом для обвинения Кречетова, то я сожалею об этом и подтверждаю первое показание — проводник Кречетов невиновен. Не знаю, как мне исправить свою ошибку: может быть это мое заявление в какой-то мере оправдает меня. Что я находился в трансе, подтверждает Бехтеревский институт, куда я был отправлен на лечение из петропавловской больницы. Справку о прохождении курса лечения вы можете приложить к моему заявлению».
В архиве областного управления связи мне удалось разыскать оригинал телеграммы Баскакова с показанием в пользу Кречетова. Главный врач больницы, куда был с вулкана доставлен Баскаков на лечение, сообщил любопытные факты, относящиеся к этой истории. Когда больной стал поправляться и готовился к выписке, его трижды навещал какой-то приезжий товарищ. Фамилию этого посетителя я установил по корешкам пропусков. Им оказался Колбин. Через два дня после посещения Колбина Баскаков выписался. А ровно через месяц его, психически больного, вновь доставили в больницу. По требованию отца — художника Баскакова — больной был отправлен в Москву в Бехтеревский институт.
Читал я и заявление Колбина на имя прокурора области. Он писал, что научные работники не могут мириться с трагической гибелью профессора Лебедянского и что виновный должен быть наказан. В этом заявлении меня удивила одна подробность: Колбин писал, что следователь Романов, то есть я, заключение о прекращении дела написал, не допросив главного свидетеля обвинения Баскакова — талантливого ученика Лебедянского.
Я хорошо помню, что перед отъездом из Лимры мы долго беседовали с Колбиным. Телеграмму Баскакова он видел, даже держал в руках. Так почему же он пишет, что я не допросил Баскакова? Значит, он знал, что дело, которое я вел, в руки прокурора попадет без показаний Баскакова? Выкрал?
Собрав весь необходимый материал, я явился к прокурору области. В ноябре он опротестовал дело Кречетова. Мысль о Колбине не давала мне покоя. Можно ли привлечь его к ответственности? Но на основании чего? Доказательств у меня никаких, догадки, одни только догадки. Придется ждать. Говорят, время — лучший лекарь. Но есть еще и другая миссия времени — карать подлецов. Любое преступление со временем всплывает наружу.
Данилка сначала дичился меня, был замкнут. Но постепенно душа его оттаяла, и мы подружились.
Нашим любимым занятием были вечерние прогулки по окрестностям поселка. Часто мы заходили к знакомому рыбаку. Он катал нас на лодке. Над уснувшей рекой звезды мерцали таинственно. Где-то лениво лаяла собака, ей отвечала другая. Мы молчали и плыли. А иногда рыбак угощал нас какой-нибудь удивительной историей из местной жизни. Истории эти казались загадочными, потому что рассказчик чего-то недосказывал. Тихо. Лодка скользила в ночи. Да скользила ли? Или стояла на месте? Шеломайники расступались, и лодка с шорохом причаливала к берегу.
Обратный путь наш лежал берегом реки. Впереди — Лимровская сопка. Откуда бы мы ни возвращались, видели ее всегда. То она была справа, то слева, то впереди и редко — сзади. Над ее вершиной всегда стояло розовое зарево. В одну ночь оно имело форму шара, в другую — огненным столбом поднималось в черное небо, в третью — вырастало в виде гриба.