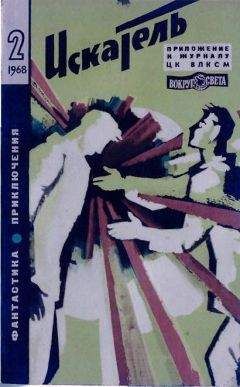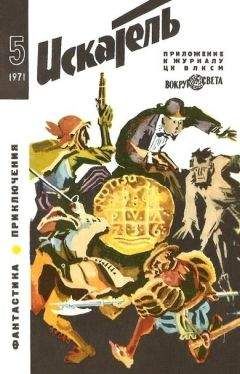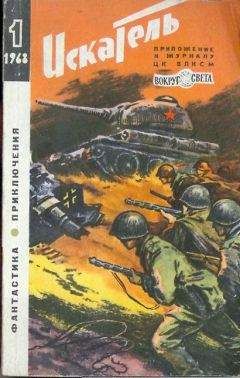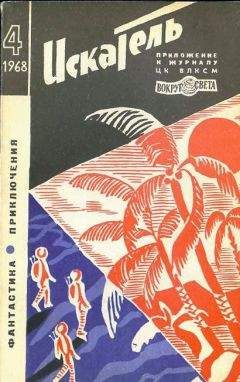— Так вот, молодой человек, доктор геологических наук Фролов работает в Нуреке. А Омар Ахрари, если, конечно, вы его имеете в виду, — в Душанбе.
Я поднялся.
— К сожалению, он уже не проводник. Он шофер.
«Педагог» поджал губы, выражая этим недовольство такой легкомысленностью неизвестного мне Омара.
— Что вас еще интересует?
— Ничего. Что я мог сказать ему о всех своих мыслях и о том, что привело меня сюда?
Омар, с красивой фамилией Ахрари, — жив. Я хочу знать не написанные в записке слова. И вообще я хочу знать, что там произошло. Слова, которые хотелось произносить отдельно, жили во мне: «Если что случится с нами…»
Смогу ли я узнать что-нибудь? Через столько лет! Впрочем, стоило ли так много думать об этом? В конце концов я просто увижу новых для меня людей и новый край. Это радовало меня.
Поезд пришел в Ош.
Жара скручивала зеленые листья в потемневшие стручки. Казалось, это происходит прямо на глазах. Она обступала плотной, вязкой массой, и при каждом движении ее надо было толкать, вытесняя в ней для себя новое место.
Через час мы уже сидели с начальником автобазы в чайхане.
Базар шумел протяжными, прижатыми жарой к земле голосами.
— Я не знаю, зачем ты хочешь его видеть, — говорил Хуршет, — но если ты хочешь говорить с самым лучшим моим шофером…
Я улыбался, видя его осторожную любезность. Но что я мог ему сказать?
Чайники приносили и уносили. Пиалы поднимались и опускались медленно, по-полуденному. Шумел базар.
Он рассказывал.
…Да, здесь было уже шоссе. Тот самый Памирский тракт, которым гордится каждый настоящий памирец. Но на самых трудных участках шоссе змеилось, прижимаясь к скалам. И такой узкой лентой, что нельзя было разъехаться. Омар тогда впервые ехал по Памиру не на лошади, а в только что полученной, еще поблескивающей зеленью машине.
Страх догнал его у Калаи-Хумб. Непонятный, жгучий. Казалось, машина скользнет сейчас в сторону, Омар будет судорожно крутить руль, а она, не слушаясь его, в каком-то ненормальном стремлении упасть с высоты — такое бывает только у людей! — уйдет вдруг вправо. Переднее колесо прокатится по синеве неба, продавит его… И все будет кончено.
Омар прижимал машину к скале, слышал какой-то ненужный, мешающий машине скрежет и хотел лишь одного; выскочить! Оставить машину наедине с ее шальным желанием упасть вниз… Пот лил с него градом, но он не мог оторвать от руля руку, чтобы провести по лицу…
— Ты что, яйца везешь?..
Кто-то прыгнул к нему на подножку и рванул дверцу.
Омар увидел надвигающееся на него худое и злое лицо. Оно наклонялось к нему прямо от серой скалы, которая была совсем рядом. И он никак не мог понять, как человек мог появиться рядом с ним. Не вышел же он и в самом деле из гранита!
— Тормоза отказали, — Омар не знал, что в нем жил такой жалкий голос.
Шофер в выцветшей гимнастерке посмотрел на ручной тормоз, и лицо его перестало быть злым. Теперь он глядел с опаской и интересом, как смотрят на душевнобольных,
— А ну, подвинься!
Он вырвал утопленный до отказа ручной тормоз, и машина, отбросив мешавший ей скрежет, послушно покатилась по узкой ленте.
Омар молчал. Он ловил себя на том, что старается запомнить, как сидящий с ним рядом шофер переключает скорости, нажимает на педали. Как держит руль. Он машинально затверживал его движения до тех пор, пока так же автоматически не понял: тот делает все так же, как делал он сам. Шофер изредка бросал на него быстрый взгляд.
— Ты загубишь себя и машину… Если еще раз струсишь. Я знаю это: сейчас не справишься, не раздавишь страх — больше тебе не ездить. Понял?
Что-то в лице Омара успокоило его.
— Давай дальше сам… И не шалей, — он резко затормозил. — Давно машину получил?
— Три дня назад… До этого я все внизу ездил.
— Вижу. Ну, жми! — шофер улыбнулся. — Смотри, сколько машин за собой собрал. Траурное шествие!.. На ручном ведь далеко не уедешь. Я тебя пешком догнал, из самого хвоста.
Омар взглянул на свои руки — они были синими от напряжения.
«..Тогда он дал себе слово: остаться на Памире шофером. И остался.
Я слушал все это, и меня преследовало ясное ощущение: мне говорят совсем о другом человеке. Что-то меня смущало. Я упорно искал это «что-то», пока, наконец, со смехом не понял: в каждом из нас живет детская страсть раскрыть когда-нибудь тайну… Живет детектив. И довольно средних способностей. Это-то и было смешно…
Но тайна записки! Почему в ней о проводнике говорилось как будто с укоризной? И стоит ли вообще раскрывать все тайны? Например, эту…
Мысли сбивались, и я спрашивал себя: «А ты бы мог рассказать, если такое случилось с тобой, а не с Омаром, — если бы страх у Калаи-Хумб догнал тебя?» Омар был один в кабине, и никто мог его страха не узнать… А почему, собственно, не рассказать? Поборол слабость, страх — и все такое… Нет, ерунда! Надо просто увидеть его.
Утром я прошел через весь город, и он поразил меня.
Город был высокий, новый. Иногда по стенам зданий мягко сбегала проложенная тенью старинная резьба по камню. Но старина была не музейная, она жила в новом и сама была обновленной. Город был старинным и новым сразу.
У одного из перекрестков загорелый рабочий, стоя в кузове машины, подавал вниз арбузы, и на асфальте росла зеленая пирамида. Я стоял долго, пока не подошла первая покупательница. Продавец вынул ей из бока пирамиды первый арбуз. Наверно, он был самый лучший…
Омара я узнал сразу. Так узнают ожившую картину из сна.
У машины стоял очень крепкий старик, с красивым узким лицом и большими глазами. Я с удивлением почувствовал себя совершенно спокойным. Омар обрадовался мне.
— Я все знаю, — медленно говорил он, ведя меня по двору. — Ты хочешь видеть наши горы, Яван… Я слышал перед войной, что ты уже есть, но я не знал, что ты такой…
Старик был слишком незнаком мне. А что я знал о нем? Лишь его страх у Калаи-Хумб… Или это было его силой?
— Ты удивишься, — говорил он, — но у меня для тебя кое- что есть… Нет. Не скажу. Потом.
Это уж совсем было странно, но я не настаивал. Как будто знал, что теперь мне придется с ним долго быть вместе.
И правда, случай дал нам возможность спокойно всматриваться друг в друга. Омар должен был ехать в Нурек. А в Нуреке живет Фролов, вспомнил я.
…Второе памирское солнце встречает нас в пути. Утро заново вырезает из отступающих ночных теней острые грани скал и шуршащие камни осыпей. Солнце выжимает из камней испарину матовой росы и раскаляет веками лежащие на одном боку валуны.
На крутых подъемах наша машина бьется мелкой дрожью, словно упираясь в невидимую, с трудом расступающуюся перед ней стену. Солнце заглядывает к нам в кабину. Козырек не помогает. Лучи бьют в глаза, и Омар щурится.