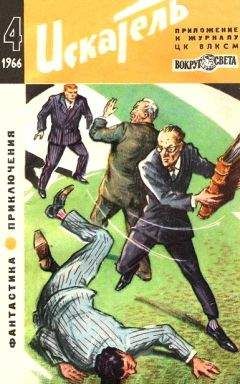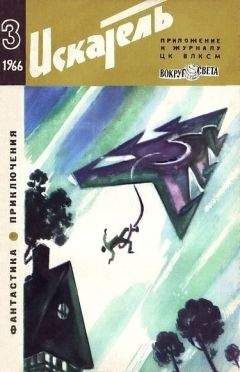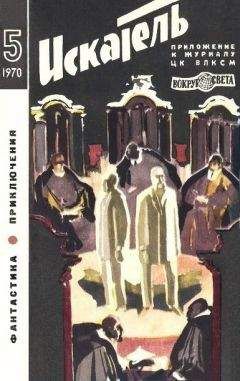— А, вот и вы опять! — сказал он. — Долго же вы беседовали со стариком Гвинном.
— Сэр Хемфри Гвинн умер! — сказал Бэгшоу. — Я веду дознание и принужден просить вас дать кое-какие объяснения.
Буллер окаменел, быть может, от неожиданности; он стоял неподвижно, как уличный фонарь рядом с ним. Красный кончик его сигары ритмически вспыхивал и тускнел, но бронзового лица его не было видно; когда он заговорил вновь, голос его звучал совсем иначе.
— Я могу только сказать, — промолвил он, — что, когда я проходил по улице два часа тому назад, мистер Орм входил в ворота сада сэра Хемфри.
— А он говорит, что не видел сэра Хемфри, — ответил Бэгшоу, — и даже не был в доме.
— Что-то слишком долго он стоял на крыльце! — заметил Буллер.
— Да, — сказал отец Браун. — на улице мало кто просто так стоит два часа подряд.
— Я за это время заходил домой, — возразил торговец сигарами. — Написал несколько писем и вышел бросить их в ящик.
— Все это вам придется повторить на суде, — сказал Бэгшоу. — Спокойной ночи, или, вернее, доброго утра!
Судебное следствие по обвинению Озрика Орма в убийстве сэра Хемфри Гвинна, которым в течение нескольких недель были полны все газеты, еще долго топталось вокруг этой краткой беседы под уличным фонарем в час, когда серо-зеленый рассвет брезжил над темными улицами и садами. Все в конце концов сводилось к тайне этих двух часов, с того момента, как Буллер видел Орма входящим в ворота сада, до того момента, когда отец Браун нашел его в том же саду. Несомненно, ему хватило бы этих двух часов на убийство. Прокурор доказывал, что он имел полную возможность совершить преступление, так как парадная дверь была не заперта и боковая дверь в сад тоже осталась открытой. Суд с величайшим вниманием слушал Бэгшоу, восстановившего полностью картину борьбы в коридоре, следы которой были столь очевидны, полиция даже нашла разбившую зеркало пулю. И, наконец, пролом в изгороди, в котором нашли Орма, несомненно, служил ему в ту ночь убежищем.
С другой стороны, сэр Мэтью Блэйк, талантливый представитель защиты, использовал эту последнюю улику в своих целях.
— Чего ради, — спрашивал он, — человек станет прятаться в ловушке, не имеющей выхода, когда гораздо разумнее выбраться на улицу?
Сэр Мэтью Блэйк очень сильно упирал также на то, что мотивы убийства не выяснены. И действительно, полемика по этому пункту между сэром Мэтью Блэйком и сэром Артуром Трэверсом — не менее блестящим представителем обвинения — принесла существенную пользу подсудимому. Сэр Артур мог только высказать предположение относительно анархистского заговора, что звучало довольно неправдоподобно. Но как только суд возвращался к таинственному поведению Орма в роковую ночь, обвинение опять торжествовало.
Подсудимый подошел к свидетельской решетке главным образом потому, что его хитроумный адвокат опасался дурного впечатления, которое мог бы произвести на суд отказ от показаний. Однако Орм отвечал столь же односложно на вопросы своего защитника, как и на вопросы прокурора. Сэр Артур Трэверс извлек величайшую пользу для обвинения из его упорного молчания, но сломить этого молчания не мог. Сэр Артур Трэверс был высоким, тощим мужчиной с длинным мертвенным лицом и являл собой разительный контраст полной фигуре и ярким птичьим глазам сэра Мэтью Блэйка. Но если сэр Мэтью был похож на воробья, то сэр Артур очень напоминал аиста или журавля. Когда он нагибался вперед, засыпая поэта вопросами, его длинный нос казался птичьим клювом.
— Не хотите ли вы заставить суд поверить, — спросил он язвительио-недоверчивым тоном, — что вы вообще не попали в дом и так и не видели покойного?
— Да! — коротко ответил Орм.
— Кажется, вы хотели повидать его. Вам, должно быть, очень нужно было повидать его: вы битых два часа простояли перед дверью.
— Да! — ответил Орм.
— И все-таки вы не заметили, что дверь была отперта?
— Да! — сказал Орм.
— Что же вы делали эти два часа в чужом саду? — настаивал прокурор. — Ведь что-нибудь же вы делали, я полагаю?
— Да!
— Это секрет? — спросил сэр Артур с злобной усмешкой.
— Для вас секрет! — ответил поэт.
Именно на этом «секрете» и построил сэр Артур свою обвинительную речь. Со смелостью, которую кое-кто счел чрезмерной, он превратил отсутствие мотивов убийства, бывшее наиболее сильным оружием в руках его противника, в аргумент обвинения. Он истолковал кажущееся отсутствие мотивов как первое доказательство широко задуманного и тщательно разработанного заговора, в сетях которого, как в щупальцах осьминога, погиб патриот Гвинн.
— Да, — восклицал он дрожащим голосом, — мой почтенный противник совершенно прав! Мы не знаем истинных причин убийства этого всеми уважаемого слуги общества. И мы не будем знать причин гибели следующего слуги общества. Вели мой почтенный противник сам падет жертвой своего высокого общественного положения, если дикая ненависть, которую питают разрушительные силы ада ко всем представителям закона, убьет его, то он тоже не будет знать причин убийства. Половина уважаемых джентльменов, заседающих в суде, будет зарезана в своей кровати, и мы не будем знать причин. И мы никогда не узнаем причин и не сможем остановить волну убийств до тех пор, пока она не опустошит всю нашу страну, если защите и впредь будет дозволено тормозить судопроизводство баснями о «невыясненности мотивов», когда все данные следствия, когда все эти вопиющие несообразности, когда упорное отмалчивание подсудимого говорят нам, что перед нами стоит Каин.
— Я никогда еще не видел сэра Артура таким возбужденным, — говорил Бэгшоу своим друзьям в кулуарах суда. — Кое-кто находит, что он перешел границы дозволенного и был более мстительным, чем полагается быть прокурору в таком деле. Но я должен признаться, что этот карлик с желтыми волосами производил жуткое впечатление. И это его каменное молчание… Не стану отрицать, что в конце концов мне показалось, будто передо мной стоит сущее чудовище. Если это только следствие красноречия сэра Артура, то он, безусловно, взял на себя тягчайшую ответственность, вложив в свои слова такую ненависть.
— Но он был другом бедняги Гвинна! — возразил Эндерхилл. — Один мой знакомый видел, как они шептались в сторонке после того рокового банкета. Потому-то, я думаю, он и вел себя так в этом процессе. По-моему, это еще не решенный вопрос, имеет ли человек в подобном случае право руководствоваться исключительно личными чувствами.
— Он и не стал бы этого делать! — сказал Бэгшоу. — Держу пари, что сэр Артур Трэверс не стал бы руководствоваться личными чувствами, как бы сильно ни переживал он гибель Гвинна. Он чрезвычайно строго относится к своей профессии. Это один из тех людей, которые остаются честолюбцами даже тогда, когда их честолюбие уже удовлетворено. Я не знаю никого, кто защищал бы столь же ревностно свое общественное положение, как он. Нет! Вы сделали неправильные выводы из его громовой речи. Если он так разошелся, то это потому, что он думает, что ему удастся добиться обвинительного приговора, и потому, что он рассчитывает встать во главе политического движения, направленного против тех заговоров, о которых он говорил. По-видимому, у него есть веские основания думать, что это ему удастся. Его уверенность сулит мало утешительного подсудимому.