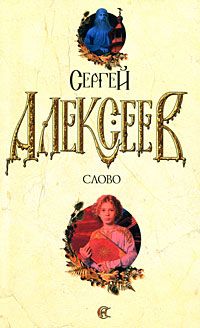— Эй, ты! — крикнул Никита. — Выходи и сдавайся!
— А ты стрелять не будешь? — пугливо спросили из сарая.
Говорил кудрявый. Голос казака он запомнил, но это был другой голос! Гудошников застонал от досады.
— Не стреляй! Я невиноватый! — просил кудрявый. — Я насильно к бандитам взятый. Я не по своей воле! Поехал в монастырь железо драть, а меня под наганом взяли!..
— Вылазь, пес шелудивый! — крикнул Гудошников. — Не трону, выходи!
— Только не убивай! — взмолился кудрявый. — Я и так раненый, у меня рука пробитая!
Кудрявый выбрался на крышу и сел, готовый в любое мгновение нырнуть обратно. Левая рука была замотана изорванным подрясником. Гудошников заставил его спуститься на землю и, удерживая под прицелом, велел подойти. Кудрявый подошел, качая больную руку и вытирая слезы.
— Отваливай камни, — приказал Никита. Корчась и оглядываясь, кудрявый освободил дверь и остановился в ожидании следующей команды.
— Заходи первый, — тихо сказал Никита. Он вдруг подумал: а что, если там ловушка? Что, если казак жив и теперь затаился, чтобы заманить комиссара в сарай и там застрелить?
Казак был убит наповал, пуля попала ему в горло. Костер догорел. В куче белого пепла лежал остывший шомпол.
Хлеба на бочке не было, а Никита точно помнил: когда его спускали с дыбы, там оставалось полкаравая…
Но самое главное — не было документов и одежды Гудошникова. Офицер переоделся в его френч, брюки, натянул поверх рясу и ушел с его документами. Чужая гимнастерка и галифе лежали на шинели Никиты грязным, серым комом. Гудошников отшвырнул его и увидел разбитый вдребезги протез…
Забытый Гудошниковым пленник стоял, переминаясь с ноги на ногу, и кряхтел, держась за руку, — с набрякшей кровью тряпки капало.
— Куда он пошел? — Никита навел на кудрявого маузер. — Ну? Говори, ублюдок?!
Бандит забормотал:
— Невиноватый! Истинный бог, невиноватый! Он еще наказал, чтоб я тебя… того…
— Чего — того? — рявкнул Гудошников.
— Это самое… Когда он уйдет в дыру, я сдамся в плен будто, а ты дверь откроешь — я в тебя стрелять должен… Но я не стрелял! Я насильно взятый! Я сам спасский, поехал железо драть!.. Железо дерут все, крыши крыть, и я поехал…
— Где он тебя должен ждать?!
— У челна! — выпалил кудрявый. — Ты, говорит, стрелишь комиссара и беги за мной…
Гудошников надел шинель прямо на голое тело, поискал обувь. Пленник услужливо принес спрятанный за бочками сапог и помог обуться.
— Вытаскивай этого! — приказал Никита, кивнув на казака.
Кудрявый, прижимая к груди простреленную руку, взял убитого за шиворот и поволок на улицу.
— Чё, хоронить будем? — деловито спросил он. — Если хоронить, так я сапоги с него сыму. Хорошие еще сапоги. Казаки справно живут…
Никиту затрясло от гнева.
— Становись рядом, шкура! — гаркнул он и поднял маузер. — Не пригодятся тебе сапоги!
Кудрявый упал на колени и вдруг завыл басом, заплакал, как плачут по убитому или умершему — тоскливо, жалобно, безысходно.
— Баба у меня, ребятишки… Пожалей, не губи… И так я потерянный… Коня забрали, железа не надрал…
Что-то мальчишеское, детское почудилось Никите в этом. Мужик здоровый, плечистый, руки как лемеха, ревел, причитал по-бабьи.
Нет уж, видно, сразу не расстрелял — теперь рука не поднимется…
— У меня пузо боли-ит, — выл кудрявый. — И ладошка простреленная… Невиноватый я… Сколь я мучиться бу-уду-у… Один стращал под ружьем, другой…
Гудошников опустил маузер и, подковыляв, ударил кудрявого по щеке.
— Ну и паскудник же ты, — вздохнул Никита. — Ну почему ты такой продажный? Почему?! Ты же меня на дыбу поднимал, а теперь милости у меня просишь. Ну что с тобой делать?
Кудрявый горько плакал, спина его, обтянутая подрясником, вздрагивала.
— Ладно, черт с тобой, живи, — бросил Никита. — Где ваша лодка?
— Недалече тута, — всхлипывая, выдавил кудрявый, — с версту будет…
Никита принес винтовки из сарая, одну, разрядив, забросил в реку, другую взял вместо костыля. Подумав, он поднял винтовку вверх и выстрелил. Эхо кувыркнулось в монастырских стенах и заглохло.
— Пошли! — приказал Гудошников. — Это тебе недалече на двух ногах… А двери привали камнем!
Кудрявый опрокинул валун, подперев дверь, и по команде Никиты пошел вперед.
Версту они шли около получаса. Никита опирался на плечо кудрявого, скакал по камням и ругался. Кудрявый предлагал взять на закорки, и однажды Гудошников было согласился, но едва оказался на спине пленника и нога оторвалась от земли, как сразу же возникло ощущение, будто его опять поднимают на дыбу.
Офицер заметил их раньше. Из прибрежных кустов ударил выстрел, и Гудошников, перехватывая винтовку, упал на землю. Рядом лег кудрявый.
— Вон он! Вон! — забормотал он, пряча голову. — На меня глядит…
Никита привстал, разглядывая кусты, но ничего не заметил. Следующий выстрел ударил от воды. Пуля взбила песок возле рук Гудошникова и, срикошетив, запела в воздухе. В это время от берега отчалила лодка, запрыгала на прибойной волне. Никита выстрелил. Расстояние было невелико, но уже опускались сумерки, и попасть в ныряющую лодку было трудно. Лихорадочно дергая затвор, Гудошников расстрелял «магазин» и опустил винтовку. Офицер, широко размахивая веслами, греб от берега и медленно пропадал в серой мгле.
— Тебя зовут-то как? — спросил Никита.
— Илюхой, — сказал кудрявый. — Илья Иваныч Потехин я, спасский.
За спиной послышался легкий шорох. Гудошников резко обернулся.
Опираясь на посох, перед ними стоял белобородый старец в скуфейке и, щурясь, глядел на уплывающую лодку.
Монастырский остров тонул в снегах.
Еще до морозов Гудошников с плененным бандитом Ильей сложили в сарае печь и вот уже два месяца сушили книги. Под потолком и вдоль стен на дощатых стеллажах и полках стояли развернутые тома, на нитках висели бумаги и грамоты. Каждую книгу следовало перелистать по несколько раз, чтобы проветрить слежавшиеся страницы, высушить и только после этого запечатать обратно в бочки. Обследовав библиотеку Северьянова монастыря лишь поверхностно, Гудошников сделал печальный вывод: пятая часть ее уже погибла. Рукописные списки, прожившие по четыре-пять веков, умирали на его глазах, и он был последним человеком, прикасавшимся к этим священным страницам. Книги жрала сырость и ядовитая нежно-зеленая плесень. Книжный жучок буравил страницы, превращая бумагу в пыль и оставляя дыры, похожие на пулевые пробоины. Многие книги из этой пятой части еще сохраняли форму, но уже превратились в куски глины: отделить лист от листа было невозможно.