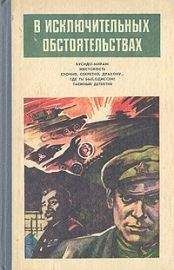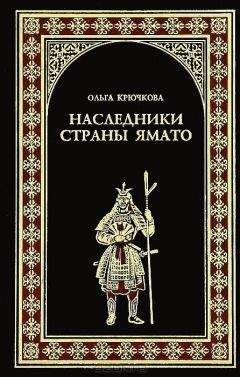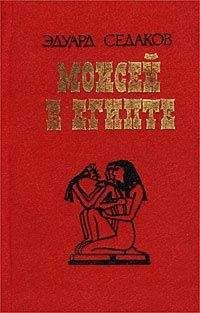Тут, наверно, мы все в одно время вспомнили эту фразу из очерка Якова Узелкова о юноше-комсомольце с пылающим взором, который совершал буквально чудеса храбрости.
– Значит, даже в губрозыске верят брехунам, – сказал Венька. – Но я все равно должен сейчас поехать в Воеводский угол.
– Когда плечо окончательно заживет, тогда посмотрим, – спрятал бумагу опять в ящик письменного стола начальник и сделал строгое лицо.
Венька застегнул все пуговицы на рубашке, поправил поясной ремень и вытянулся, как на смотру.
– Я уже и так вполне здоров. Чего еще надо? Глядите, как я нажимаю плечо. И ничего…
– Медицина, видишь, другого мнения.
– А ну ее, медицину! – вдруг вспыхнул Венька. И кроме Веньки, никто бы так не посмел вспылить в присутствии нашего начальника. – Мне работать надо, а тут какая-то ерунда с медициной…
Начальник, однако, не одернул Веньку. Промолчал. И можно было так понять, что он согласен с Венькой.
Поляков, уже не прекословя, повел Веньку на перевязку к себе в амбулаторию. И, как бы извиняясь перед Поляковым за свой внезапный выпад против медицины в кабинете начальника, Венька говорил по дороге на перевязку:
– Это если б зимой – пожалуйста. Я бы с удовольствием, Роман Федорович, еще полечился… Худо ли отдохнуть, почитать, разные байки послушать. А сейчас – вы же сами понимаете – лечиться некогда. Такая горячка начинается. Одним словом – весна. И скоро – лето…
Мы шли с Венькой домой, на нашу улицу Пламя революции, мимо городского сада, мимо пахучего кустарника, уже нависшего курчавыми вершинами над решетчатым деревянным забором.
Я предложил:
– Может, зайдем к Долгушину? Он вчера переехал в сад. И медведя своего перевез…
– Ну и пес с ним!
– Нет, правда, может, зайдем? По случаю твоего выздоровления. У Долгушина выступает какой-то новый куплетист. Из Красноярска.
– Ну и пусть выступает! А я поеду в Воеводский угол. Некогда мне. В другое время куплетиста послушаем…
Мне тоже хотелось поехать в Воеводский угол, но начальник меня не пустил.
Венька уехал один. И на работе я как-то не замечал его отсутствия. А в свободные часы мне вдруг становилось скучно. В больницу теперь не надо было ходить. И к Долгушину идти одному казалось почему-то неудобным.
Перед вечером однажды я зашел в библиотеку. Катя Петухова собиралась домой. Она уже сняла свой серенький халатик и мыла руки под дребезжащим умывальником.
– Закрыто, – сказала она мне довольно нелюбезно. – Разве не видно, на дверях написано: до семи тридцати.
– Ничего, – сказал я, – я только книжки посмотрю.
– Завтра посмотришь…
– Завтра я, может, уеду. Я хотел сегодня тут кое-что посмотреть.
– Ну, посмотри, – согласилась она.
Я смотрел книжки, пока она вытирала полотенцем руки, потом надевала синюю жакетку. Наконец она загремела ключами и стала у открытой двери, нетерпеливо ожидая, когда я уйду.
Мы вышли вместе, молча прошли весь переулок, а у ворот городского сада я сам неожиданно для себя предложил ей:
– Зайдем в сад?
– Это зачем же?
– Просто погуляем, пройдемся. А что особенного?
– Ничего особенного, – сказала Катя. – Но я еще не обедала…
– Здесь и пообедаем. У Долгушина.
Катя вдруг обиделась, покраснела, и на белобровом ее личике как-то смешно вздернулся веснушчатый носик.
– Ты меня за кого принимаешь?
Я засмеялся.
– Я тебя принимаю за девушку, за комсомолку, за хорошего товарища…
– Нет, ты что-то задумал. Я в жизни никогда не бывала в ресторанах. Я считаю, что комсомольцы не должны…
– Комсомольцы должны все испытать, – авторитетно сказал я. – Ты что, считаешь, что в рестораны ходят только одни нэпманы и всякая мразь?
– О, ты, я смотрю, оригинальный человек! – улыбнулась Катя.
Я не знал, хорошо ли это – быть оригинальным человеком. Я понимал только, что Катя относится ко мне снисходительно, смотрит на меня свысока, как бы с высоты тех книг, которые она прочла в этой обширной библиотеке.
Однако она все-таки пошла со мной в сад, а потом и в ресторан Долгушина – в этот дощатый, застекленный павильон, наскоро выстроенный среди густого кустарника.
Всего больше ее заинтересовал начучеленный медведь, поставленный здесь, как и в зимнем ресторане, у входа. В вытянутых лапах он держал керосиновую лампу-«молнию». Катя с некоторой робостью, но внимательно осмотрела его. Потом заинтересовалась посетителями.
Катя была первой девушкой, которую я решился пригласить в ресторан.
Я даже не знаю, как это я вдруг решился. Но в ресторане я вел себя уверенно, вслух читал меню и советовал, что лучше выбрать из многочисленных блюд с замысловатыми иностранными названиями: «шнельклепс», «бефбули», «эскалоп», «ромштекс». Все почти одно и то же, но названия разные.
– И ты часто бываешь здесь? – спросила Катя.
– Часто, – соврал я.
Мне почему-то хотелось, чтобы Катя считала меня развязным, бывалым, даже испорченным. Пусть она, такая правильная, начитанная, благонамеренная, как сказали бы в старину, пусть она даже чуть ужасается, наблюдая за моим поведением. Пусть она думает, что я гуляка, прожигатель жизни. Пусть она критикует меня. Но Катя не критиковала. Она только приглядывалась ко мне, и в глазах ее, умных и немножко лукавых, я читал удивление, граничащее с испугом.
Мне нравилось это.
Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед. Но я сказал, что это мещанство, и она успокоилась.
Мещанство – это было такое слово, которое пугало многих в ту пору. И им, этим словом, обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством.
Я проводил Катю домой, не решаясь, однако, взять ее под руку.
И с этого вечера мы стали встречаться с ней почти каждый раз, когда я бывал свободен от работы по вечерам.
А Венька все еще не приезжал.
Я приглашал Катю зайти ко мне, посмотреть, как я живу. Но Катя уклонялась от этого приглашения.
– Лучше ты ко мне зайди в воскресенье, если хочешь. Я познакомлю тебя с мамой.
Но я тоже не решался зайти к ней домой. Знакомство с ее мамой мне представлялось мещанством.
Мне приятно было, что Катя такая рассудительная и образованная. Конечно, она не такая красивая, как Юлька Мальцева. Даже совсем не красивая, но очень симпатичная и какая-То душевная.
Она расспрашивала меня о моих делах – не о конкретных уголовных делах, которыми я занимался ежедневно, а о том, что я думаю, что я собираюсь делать дальше.
– Не всегда же, не всю жизнь, ты будешь работать в уголовном розыске. Или ты хочешь остаться навсегда?