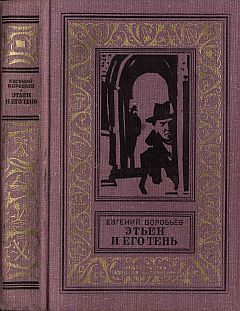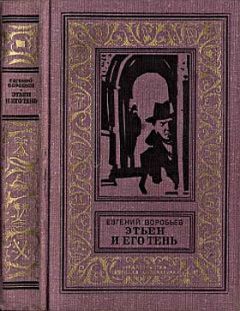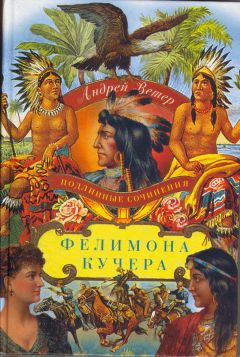«Фиат» улетел, стих его мотор, пассажир поднялся, посмотрел на небо и скомандовал:
– Аванти, Фернандес!
Но Фернандес остался недвижим. Пассажир поднял тело, понес к мотоциклу и положил в коляску, сел на место убитого, завел мотор и поехал, медленно объезжая воронки. Были ранние сумерки, когда мотоцикл въехал в ворота монастырского подворья, где обосновался командный пункт Доницетти.
– Курт! – Пассажир подозвал к себе долговязого бойца интербригады – тот сидел в тени каменного забора и перебирал пулемет.
Курт вгляделся в запыленного до неузнаваемости товарища, узнал его, расторопно поднялся и подбежал к мотоциклу.
Вдвоем они перенесли убитого в тень, а монах накрыл его черным покрывалом.
Вновь прибывший отдал Курту какой-то приказ по-немецки, поправил портупею с пробитой полевой сумкой и торопливо прошел через двор, на ходу стряхивая с себя пыль пилоткой. Он подошел к часовому, стоявшему у входа в подвал, и спросил:
– Камарад Доницетти здесь?
Часовой кивнул.
– Доложите. Подполковник Ксанти.
– Проходите, вас давно ждут.
Едва он спустился в полутемный подвал, как его окликнули из полутьмы по-испански и тот же голос нетерпеливо спросил его по-русски:
– Почему так поздно, Хаджи? До перевала далеко. Ты же сам знаешь – ночи короткие…
– С трудом добрался, Павел Иванович. – Ксанти говорил с кавказским акцентом.
Он подошел к столу, положил рядом с лампой запыленную полевую сумку. Доницетти приблизился к свету, на плечи накинута кожаная куртка. Он взял сумку, увидел след пули и вопросительно посмотрел на прибывшего.
– Фашисты висят над дорогой. Налет за налетом… Фернандес убит…
Доницетти поднял «летучую мышь» над головой и осветил подвал. Это был винный погреб; вдоль стены стояли огромные винные бочки. На полу сидели несколько бойцов из интербригады, люди в крестьянском платье, партизаны.
Ксанти коротко кивнул Цветкову, который, по обыкновению, собрал вокруг себя слушателей и возбужденно рассказывал:
– …согнулся в три, если не в четыре погибели, подлез под сваи, приладил свой подарочек, перевязал аккуратненько бикфордовым шнурочком, прикурил и только отполз на карачках – к-а-ак жахнет!!! не успел сказать генералу Франко эскюз ми, в смысле «пардон»…
– Тишина, камараден, – приказал Доницетти по-испански, перекрывая гул голосов и смех. И после паузы сказал: – Шапки долой! Фернандес убит.
Встали, обнажили головы, послышалось на нескольких языках: «Мир его праху!», «Бедняга Фернандес!», «Честь его памяти!»
Ксанти отер серые губы от пыли, взял кружку, подошел к винной бочке, нетерпеливо открыл кран – ни капли.
Цветков сочувственно поглядел и налил ему вина из бутыли, оплетенной соломой.
Доницетти извлек из сумки пакет, сорвал сургучные печати, бегло ознакомился с бумагами и развернул сложенный вдвое, пробитый в двух местах пулей план аэродрома.
Он расстелил план на столе.
– Камараден, вот отсюда они летают на Мадрид. Нужно сжечь бомбардировщики. Это мой приказ и просьба жителей Мадрида. Ночью буду на перевале «Сухой колодец». Хочу вас проводить.
Доницетти познакомил подрывников с диверсионным заданием, он водил пальцем по плану аэродрома:
– …цистерны, ангары, а здесь таверна. Она открыта до глубокой ночи. Учтите, Ксанти, – туда может набиться десятка два посетителей… Здесь, здесь и вот здесь зенитки. От восточных ворот держитесь подальше, там командансия. Ваши исходные позиции – апельсиновая роща, канал Альфонсо. Действуйте одновременно разрозненными группами. После операции выходите на старую дорогу.
– С кем я иду? – спросил Цветков, стоявший рядом.
– В твоей группе Курт и Людмил.
– А Баутисто ждет на перевале, – добавил Ксанти.
Горный перевал «Сухой колодец» был освещен луной, когда по узкой тропе уходили цепочкой подрывники. Одни были одеты в форму солдат Франко, двое шли в итальянской форме, несколько бойцов из интербригады шли под видом испанских крестьян. Ксанти в форме офицера-франкиста проверял у каждого уходящего, как подогнано снаряжение – не бренчит ли? Как обуты?
Старый партизан вел в поводу навьюченного мула.
– Баутисто, – обратился к нему Ксанти, – где запалы?
– Не беспокойтесь, камарад подполковник. Запалы лежат отдельно от динамита.
Следом за Баутисто прошагал долговязый Курт с ручным пулеметом на плече; к поясу он подвязал котелок, поблескивающий при лунном свете.
За ним шел пастух с котомкой за плечами, с кнутом в руке и подгонял отару овец. На нем широкополая соломенная шляпа, лица не видно. Проходя мимо командиров, пастух щелкнул кнутом и крикнул озорно:
– Но-о-о, залетные!
– Цветков идет в гости со своим шашлыком, – засмеялся Ксанти.
– Только, Василий, не играй с огнем и сам не горячись, – успел вдогонку сказать Цветкову Доницетти.
В ответ донеслось залихватское:
– Все будет о'кей, синьор Павел Иванович! Гуд бай, в смысле «пока»…
Прошагали еще два испанских партизана, могучий болгарин Людмил в каске.
– Ну вот, Павел Иванович, мои все… – сказал Ксанти, прощаясь. – Одиннадцать.
– Двенадцатым, Хаджи, будем считать Этьена.
Кертнер занял койку в центре камеры. Отныне над головой его будет вечно гореть лампочка в шесть свечей. Спать беспокойнее, но зато можно читать при тусклом свете.
Соседству Кертнера очень обрадовался приветливый парень невысокого роста – тот самый, который втащил его в камеру. Зовут его Бруно, родом из Новары, судили в Милане, от роду двадцать шесть лет. Его койка тоже в центре камеры, но у противоположной стены.
Бруно и Кертнер легли головами друг к другу. Так удобнее переговариваться вполголоса; между изголовьями лишь узкий проход.
Проговорили ночь напролет, и под утро Этьен знал о новом соседе много. Он прочитал письма, полученные Бруно в последние месяцы. Письма писала соседская девушка, потому что мать Бруно малограмотная, брат воюет в Африке, а отец, старый шахтер Паоло, ослеп после завала в шахте.
Оказывается, Бруно – самый пожилой в камере. Несколько парней попали в тюрьму уже во второй раз, их называют «возвратные лошадки».
Неприятно, что Этьен не может ответить откровенностью новому другу, который распахнул перед ним свое сердце. Сколько раз ему придется обидеть профессиональной скрытностью товарищей по заключению? Они отнеслись к Кертнеру с предельным доверием, а Этьен не мог отплатить им той же драгоценной монетой.
Камера живет коммуной, причем Бруно – главный распорядитель денежных фондов. Поддерживают заключенных, у которых на тюремном счету нет ни сольдо. Первый фонд, самый большой, предназначен для больных, второй фонд – на питание. Без того, чтобы докупать в тюремной лавке какую-нибудь провизию, выжить трудно. Трудно привыкнуть к голоду, тем более молодым парням. Каждый имеет право по своему усмотрению истратить на себя несколько лир в месяц, если же у кого-нибудь перерасход, ему соответственно уменьшают дотацию на следующий месяц.