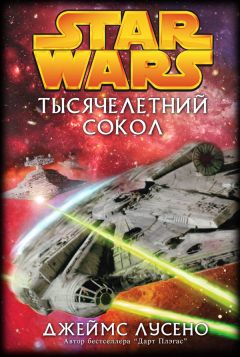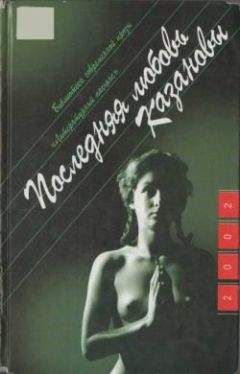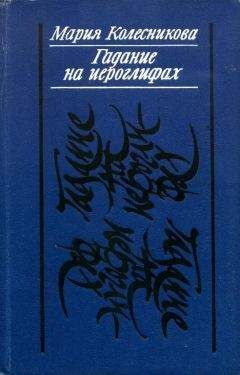В одном из боев офицер трусливо сбежал. Щетинкина назначили командиром роты, присвоили штабс-капитана.
Полк Щетинкина находился во 2-й армии генерала от кавалерии Самсонова. Эта армия, принявшая на себя основной удар и оставленная без помощи и содействия конницы Ранненкампфа, была разбита в Восточной Пруссии, генерал Самсонов погиб. Предательство, обман и снова предательство…
Кто-то из солдат или младших чинов тайно подкладывал ему запрещенные прокламации. Петр Ефимович читал их с болезненным интересом. Мол, пора превратить империалистическую войну в гражданскую. Хотелось доподлинно знать: как? Заговорил с зауряд-прапорщиком Калюжным: «Вы того, поаккуратней…» Калюжный сделал вид, будто ничего не понимает. «Во время утренней молитвы рота поет «Марсельезу» на церковный лад», — пояснил Щетинкин.
— Да откуда же они, собачьи дети, французский гимн знают?! — деланно возмущался Калюжный. — Не иначе кто из французишек научил: сами в своей Франции воюют плохо да еще наших солдат учат «отрекаться от старого мира».
Он явно издевался над штабс-капитаном. Щетинкин рассвирепел:
— Вот ты, Калюжный, мне прокламацию подсунул про войну империалистическую и войну гражданскую. Прочитал — ни черта не понял. А вы хотите, чтоб ее солдат понял. Как же он поймет всю эту большевистскую премудрость?
— Уже поняли, ваш бродь. Мы вас не подведем…
— Сами себя не подведите. Я в ваши «игры» не играю. Да и без вашей агитации кое-что понял. Но не сдаваться же в плен! Кто-то должен воевать…
— Зачем? — серьезно спросил Калюжный.
— Затем, что на войне положено воевать.
В «игры» пришлось играть там, в Ачинске, и в Красноярской тайге. После Февральской революции все вдруг превратились в «граждан». Теперь к Щетинкину должны были обращаться не как к «благородию», а как к «гражданину начальнику» или «господину офицеру». Пытался втолковать солдатам своей учебной команды суть революционных изменений в обращении друг к другу. Они смеялись: «Господин солдат? Так мы же, по словам одного знаменитого генерала, есть «святая серая скотинка»…» В их смехе крылась давняя обида и горечь.
Щетинкин махнул рукой и перестал обращать внимание на то, как называют его солдаты. В самом деле: кому это все нужно сейчас? Солдатики рвутся домой, а высокое начальство собирается всех их бросить на фронт. Правда, «увечному воину» такое не грозило. Да и не рвался он на фронт. Часто навещал семью, которая оставалась в деревне Красновке. Дети подрастали. Клаве исполнилось пять, Надя была на два года младше. Васена собиралась родить третьего.
Жене говорил:
— Даст бог, демобилизуют из армии, а дело идет к тому. Осяду на землю, плотницким делом займусь, и заживем мы тихой, мирной жизнью в свое удовольствие… В наше смутное время лучше всего быть увечным воином — кому он нужен?
Васене такие слова что маслом по сердцу. Плохо ли, когда муж всегда при доме, при хозяйстве. Детям нужна отцовская ласка, забота. И ему казалось, что именно к такой вот спокойной, мирной жизни он продирался через все ужасы войны, как в тайге продираешься сквозь бурелом и топи.
Еще на фронте стал различать политические направления и партии, их программы. Многое объяснял прапорщик Калюжный, который очень умело развенчивал и меньшевиков, и эсеров, и кадетов — всех, кто набивается в поводыри народные. Своего отношения к программам партий Щетинкин никак не проявлял, только слушал, осмысливал, и прапорщик не знал, уразумел ли штабс-капитан суть борьбы разных партий. Особенно подробно Калюжный рассказывал о большевиках, о Ленине, об отношении большевиков к войне. «Война любого из нас большевиком сделает…» — думал иногда Щетинкин.
На лесоразработки в Красноярской тайге в помощь его учебной команде дали полсотни мадьяр-военнопленных. И возле Ачинска, и неподалеку от Красноярска находились лагеря военнопленных. Обычно их использовали на заготовке топлива или бросали на лесоразработки. Старостой военнопленных мадьяр был молодой офицерик — лет двадцати, невысокий, коренастый, с щегольскими усиками и ясными, слегка выпуклыми серыми глазами. Во всем его поведении чувствовалась отличная военная выучка, «благородная» аккуратность: грубая обувь начищена, потертая венгерка тщательно заштопана. «А мадьярчик-то, видать, того, слабачок, венгерку носить умеет, а в плен сдался…» — с насмешливым презрением подумал о нем Щетинкин. Он считал плен позором: лучше смерть, чем унижение пленом. Солдатам своим внушал: война есть война, относиться к ней можно по-разному, даже ненавидеть, так как она — дело кровавое, бесчеловечное. Но в бою стой до последнего, не подводи товарищей, которые дерутся рядом. Слабых солдатиков в атаку, в рукопашную не брал, определял ездовыми, поварами. Война сурова и беспощадна, а у человека не сто жизней в запасе.
Бела Франкль — так представился Щетинкину «чистюля» мадьяр. Он хорошо говорил по-немецки, а по-русски знал, может быть, с десяток самых необходимых слов, которые произносил с невероятным акцентом. Щетинкин за войну поднабрался по-немецки; так и объяснялись: моя — твоя.
Военнопленные, в общем-то, находились на подножном корму, властям было не до них. Очутившись в тайге, обрадованные сверх меры, они занялись добычей пропитания: ловили рыбу, ставили силки, собирали ягоды. И работали дружно. Распоряжения своего юного старосты выполняли беспрекословно, хотя Щетинкин ни разу не слыхал ни окриков, ни суровых приказаний со стороны старшего, все делалось как бы само собой. Мало того, солдаты его прямо-таки боготворили. Вскоре Петр Ефимович заметил, что и его русаки потянулись к венгру. «Веселый человек, ваш бродь, и очень добрый. Царя своего, Франца-Иосифа, шибко ругает». Щетинкин заинтересовался: что за фрукт? Однажды, тщательно подбирая немецкие слова, спросил напрямик: «В плен сам сдался или захватили?»
— Сам. Всей ротой перешли, — серьезно ответил Франкль.
— Струсили? — беспощадно продолжал Щетинкин.
Глаза гусара вспыхнули гневом.
— Венгры — храбрые воины. Это была венгерская рота. И мы, офицеры, тоже все были венгры. Многие из наших тут. Привезли из Омска…
— Ну и что же?
— А то, что венгр не хочет воевать за австрийский интерес. Он хочет свободный Венгрия… Хочет революция… Чтобы власть народа…
«Ого-о…» — удивился Щетинкин и с нарочитой строгостью спросил:
— Выходит, ты политический?
— Да! — закивал головой Франкль, ничуть не испугавшись грозного голоса штабс-капитана. — Мы за революция в России. Скоро конец войне, и мы вернемся домой.
Щетинкин удивился ясности и конкретности мышления юного мадьяра. Вот так: не захотели воевать за интересы австрийских капиталистов и помещиков. Гораздо раньше Петра Щетинкина, потомственного труженика, разгадали грабительский характер войны.