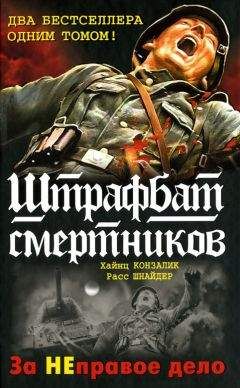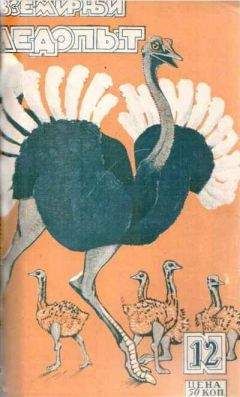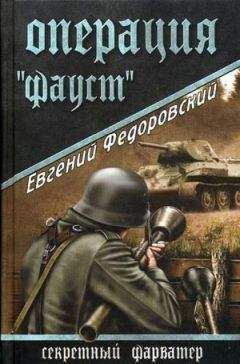— Вечером, когда все обитатели пансиона соберутся на ужин, Нина под каким-нибудь предлогом зайдет к хозяйке и познакомится с каждым из них, — сказал Павел. — А ты постарайся отыскать Ахима Фехнера, того, кто проболтался о трубе с прицельной рамкой. Завтра поедешь в Мюнхен. Туда через семнадцатое почтовое отделение на имя «Бера» приходят письма от матери Березенко. Попробуй о нем что-нибудь разведать, покружи у проходной БМВ…
— Чему ты меня учишь? — с некоторой обидой произнес Йошка. — Я давно знаю, что должен делать!
— Не учу, распределяюсь во времени. — Павел понял, что допустил бестактность, и добавил мягче: — Мне тоже предстоит задачка не из приятных, черт знает чем окончится визит в полицейское управление.
— Может, лучше тебя подстраховать?
— Не надо. И меня не выручишь, и себя погубишь. В случае чего, тебе же придется доводить дело до конца.
Подсознательно Франца Штефи, старшего брата Артура, тревожила мысль, что он, одаренный, талантливый художник, посвятил свое творчество изображению сусальных и самоуверенных героев, которые ни в чем не сомневаются и никогда не страдают. Многообразие их человеческих чувств заключается лишь в том, что одни умеют стрелять, другие рожать, третьи умирать смертью белокурых бестий.
Раньше Франц писал пейзажи, прозрачные и тонкие, какие умеют рисовать китайцы. Он был так поглощен своей живописью, что почти не обратил внимания на приход к власти нацистов. Но однажды утром в дом постучался посыльный из комиссариата и вручил живописцу извещение явиться к культурфюреру. Франц сидел перед картиной и заканчивал отделку.
— Прошу подождать, — холодно сказал он вошедшему.
— Вы, очевидно, плохо поняли меня, — возразил посыльный, одетый в светло-коричневую форму, какую носили штурмовики. — Я вручил вам не уведомление, а приказ. Приказ, как всегда, должен выполняться немедленно.
— Но у меня засохнет лак!
Штурмовик подошел к картине, взял из ведерка кисть потолще и перечеркнул пейзаж крест-накрест.
— Больше пейзажи нам не понадобятся, — деланно зевнув, проговорил он и рявкнул: — А ну, встать!
Штурмовик привел Франца к культурфюреру Герману Лютцу. У Штефи сразу пропало желание жаловаться на посыльного, испортившего картину.
— Вам совсем не к лицу малевать разные безделки, — сказал Лютц.
— Но это пейзажи моей родины! — воскликнул Франц.
— Чепуха! Отныне вы будете выполнять наш заказ. Вы должны выразить величие нашего времени, дух немца — труженика и бойца.
— Я не умею… — развел руками Франц.
— Учитесь. Помните в «Эдде»:
В распре кровавой брат губит брата;
Кровные родичи режут друг друга;
Множится зло, полон мерзости мир.
Век секир, век мечей, век щитов рассеченных,
Вьюжный век, волчий век — пред кончиною мира…
— Я не читал «Эдду».
— Будете читать, — как бы успокоив, проговорил культурфюрер Лютц. — Наступил век очищения от скверны. Это жестокий век, милейший, и его надо воспеть.
— А если… если… — замямлил Франц и, собравшись с духом, выпалил: — Если я откажусь?
— Да мы просто пошлем вас в трудовой лагерь. Там с лопатой в руках вы станете познавать внутренний мир созидателя. Я — Герман Лютц — отныне буду вашим наставником. Все заказы вам будут приходить только через меня.
Так Франца Штефи зачислили в солдаты нацистского художественного фронта.
«Плохо, когда искусство подчиняется административным канонам, — размышлял Штефи. — Политический энтузиазм губит художника, превращает его в поденщика. Выжмут, как губку, а потом предложат: хотите хорошо жить, защищайте свастику; хотите писать, как Либерман, Балушек, Целле[43], будете маршировать по плацу концлагеря. Сам-то он достаточно умен, чтобы понять разницу между собой и Рафаэлем, даже между вчерашним и сегодняшним Францем Штефи. Но выхода нет. Нет выхода! Вот и торгуешь собой, идешь на шулерские сделки с искусством, спекулируешь, в сущности, голым нарядом короля, выдаешь все эти поделки за великое искусство «новой Германии».
…Франц сидел в саду перед мольбертом. Он писал «Сражение под Смоленском» для Дома инвалидов в Мюнхене. Еще недавно он получал заказы через Лютца. Теперь другой культурфюрер ведал заказами, а Герман Лютц стал большим человеком на «Байерише моторенверке» — арбайтсфюрером. Рядом на стульчике лежали кисти и краски. Он до них не дотрагивался сегодня, он думал.
Он все более склонялся к мысли, что виной его личной трагедии является общество, в котором царит самообман.
«Да. Самообман, — удовлетворенно повторил он про себя. — Самообман — двигатель современного общества. К тому же это общество построено на зависти. Таким, как он, Франц Штефи, завидуют. Люди творческого труда, в сущности, слабые люди, им нужна слава. Они презирают толпу, но и чувствуют свою зависимость от нее. Люди вообще не понимают друг друга. Люди эгоистичны. И еще, как нам твердят теперь, в каждом человеке таится зверь. Вот и взращивают в молодых поколениях немцев этого зверя, и лелеют его, и подогревают в них человеконенавистничество, и никакое искусство не может с этим бороться. Боже мой, до чего он додумался? Господи…»
— Франц, тебе принесли почту!
Штефи вздрогнул, схватился за кисть, пододвинул мольберт:
— Что там?
— Посмотри сам, не граф! — У Клары неприятный, низкий, словно пропитой голос.
— Я же работаю!
— Ах да! Ты пишешь портрет кайзера…
— Не остри! Кайзер был намного умнее тебя.
— И глупее тебя, конечно.
— Клара, принеси почту!
— Ах, почту! Письмо с приглашением посетить тайную полицию?
— Идиотка! Какое ты имеешь представление о тайной полиции?…
Эту перепалку слышали Павел и Нина, голоса супругов ворвались в открытую форточку. Франц с Кларой еще не знали, что в обычно пустовавшем флигеле поселились приезжие.
Франц мало был похож на Артура. Рано разжиревший, вислозадый, с рыхлым угреватым лицом. Белесые глаза его обрамляли жесткие и прямые ресницы. Говорил он фальцетом — возможно, оттого, что его раздражала жена.
— В конце концов, ты принесешь мне почту?! — взвизгнул он, вскакивая с парусинового стульчика.
— Ладно, уймись, сейчас принесу, — сказала Клара и, довольная тем, что вывела мужа из себя, удалилась в дом.
Павел решил воспользоваться моментом, чтобы познакомиться с Францем и передать ему письмо Артура. Он подошел сзади, некоторое время молча рассматривал картину. За неимением натуры художник пользовался фотографиями из журналов — они лежали на стуле в картонной папке.