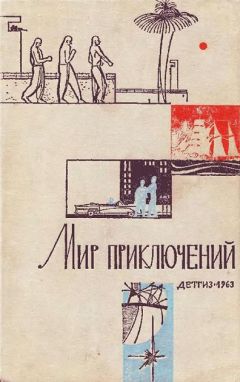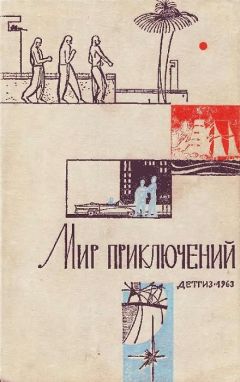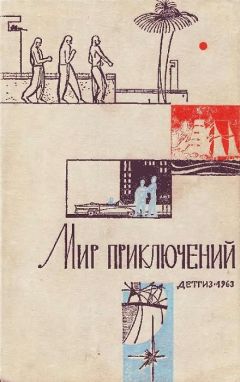Князев, с забинтованной головой, пришел в госпиталь. В коридоре ему удалось перехватить какого-то врача и поговорить с ним. Шурка не слышал разговора, но видел, как оттопырилась нижняя губа врача и еще больше осунулось худое, герое от пыли лицо Князева. Плохо дело!
— Не приходит в сознание, большая потеря крови, — сказал Князев, подойдя к юнге. — Насчитывают шесть или семь пулевых ранений! Другой умер бы давно…
Воображению Шурки представился раненный прошлой весной торпедный катер, из которого хлестала во все стороны вода. Гвардии капитан-лейтенант сумел удержать катер на плаву, спас его от потопления. Кто спасет гвардии капитан-лейтенанта?
Князев ушел и увел с собой боцмана. Но юнге разрешено было остаться. Да и как можно было не разрешить ему остаться?
Шурка занял позицию в коридоре у окна, напротив шубинской палаты, и стоял там, провожая робким взглядом проходивших мимо врачей. Новые партии раненых все прибывали и прибывали.
Сердобольные нянечки покормили юнгу кашей. Торопливо поев, он снова встал, как часовой, у дверей. Конечно, это было против правил, но ни у кого не хватало духа прогнать его, таким скорбным было это бледное, худое, еще по-детски неоформившееся лицо.
Где-то за стеной тикали часы. Они, вероятно, были большие, старинные, и бой у них был красивый, гулкий. Сейчас они старательно отмеривали минуты жизни гвардии капитан-лейтенанта, и Шурка ненавидел их за это.
Шесть или семь ранений! Можно ли выжить после семи ранений?
Хотя гвардии капитан-лейтенант всегда выходил из таких трудных переделок!
Однажды в присутствии Шурки он сказал Павлову:
«Конечно, я понимаю, что рано или поздно умру, и все-таки, знаешь, не очень верю в это!»
А сейчас гвардии капитан-лейтенант лежит без сознания, воля его парализована — корабль дрейфует по течению к роковой гавани.
Лишь бы он пришел в себя! Мозг и воля примут командование над обескровленным, продырявленным телом и, может быть, удержат его на плаву.
О, если бы он очнулся хоть на две пли три минуты! Шурка встал бы на колени у копки и шепнул на ухо — так, чтобы никто не слышал:
«Не умирайте, товарищ гвардии капитан-лейтенант! Вам нельзя умирать! Ну, скажите себе: «Шубин, живи! Шубин, живи!» И будете жить!..»
Накрытого белоснежной простынем гвардии капитан-лейтенанта провезли мимо Шурки на операцию, потом через час с операции.
Юнга так и не увидел его, хотя поднимался на цыпочки. Гвардии капитан-лейтенанта заслоняли врачи. Оки шли рядом с тележкой и, показалось Шурке, прерывисто дышали, как заморенные лошади после тяжелого пробега.
В коридоре уже зажглись лампочки, санитарки начали разносить ужин. Будничная жизнь госпиталя шла своим чередом, а двери палаты были по-прежнему закрыты перед юнгой. Командир его никак не сдавался — не шел ко дну, но и не всплывал.
За окном стемнело.
Лишь в начале ночи заветные двери распахнулись и толпа люден в белых халатах повалила из палаты. До Шурки донеслось:
— …был почти безнадежен. Но когда очнулся, я надеялся…
От этого «был» у Шурки похолодело внутри.
— Да, железный организм! Такой встречается один на десять тысяч.
Кто-то возразил негромко:
— А по-моему, он просто устал. Он так устал от войны…
Переговариваясь, врачи прошли по коридору. Шурка, будто окаменев, продолжал стоять на своем посту у дверей.
Тиканье часов наполнило уши, как бульканье воды. Часы за стеной словно бы сорвались с привязи, тикали очень громко и быстро.
Из палаты вышла сестра.
— А ты всё ждешь? — сказала она участливым, добрым голосом. — Нечего тебе, милый, ждать! Иди домой! Иди, деточка!
Она сделала движение, собираясь погладить юнгу по голове.
Но он уклонился от со жалостливой ласки. Рывком сбросив с себя больничный халат и нахлобучив бескозырку, стремглав кинулся к выходу из госпиталя.
И тиканье часов, как свист бичей, неотступно гналось за ним!
Он бежал по длинному коридору, потом по лестнице, наклонив голову, чтобы никто не увидел, не подсмотрел внезапно прихлынувших к глазам слез. Никогда в жизни не плакал, не умел плакат: я вот…
* * *
На этом обрывается погоня Бориса Шубина за немецкой подводной лодкой, прозванной «Летучим голландцем».
В последующих главах романа «Секретный фарватер» рассказано о том, как эти поиски продолжил и завершил бывший юнга, впоследствии лейтенант-пограничник Александр Ластиков.
М. Емцев,
Е. Парнов
ПАДЕНИЕ СВЕРХНОВОЙ
Впервые в жизни Юру посетило волнующее чувство отрешенности и лихорадочной нетерпеливости, так хорошо знакомое, по его мнению, всем великим поэтам и физикам-теоретикам.
Юра быстро вскочил с кровати и, тихо ступая босыми ногами по мягкому ворсу ковра, подошел к окну.
За окном рождалось утро. Оно спускалось с далеких высот в невероятном зеленом свете, который быстро таял, уступая место пурпурным и янтарным оттенкам.
Такое утро бывает только в горах. Юра мог бы сказать еще точнее, такое утро бывает только на высоте 3250 метров над уровнем моря, на небольшой площадке хребта Западный Тайну-олу, у самой границы с Монголией.
Здесь, в забытом богом и людьми месте, как часто любит говорить Юрин сосед по комнате Анатолий Дмитриевич Кирленков, приютился маленький белый домик Нейтринной астрофизической лаборатории Академии наук СССР.
Два раза в месяц сюда прилетает вертолет. Он доставляет письма, газеты и съестные припасы В эти дни здесь бывает праздник — никто не работает. Чаще прилетать вертолет не может — уж очень далеко забралась Нейтринная от людского жилья. Но иначе нельзя, если хочешь поймать самую неуловимую представительницу субатомного мира, частицу-призрак, будь добр исключить всякие посторонние влияния. Под посторонними влияниями обитатели Тайну-олу понимают почти все проявления материальной культуры XX века: антенны радиостанций, динамо-машины, мощные магниты и дым заводов и фабрик, который окружает наши города никогда не тающим облаком.
Юра смотрит на лазоревые тени от пихт и кедров, на бриллиантовую пыль, которая курится над снегом, но видит пыль межзвездных бездн, спирали галактик, рождение и смерть миров.
В горле у него что-то стучит и рвется, а под сердцем тает льдистый и щекочущий холодок. И Юра понимает, что это пришло оно — вдохновение. Юра поэт. То есть он инженер-электрофизик, но все-таки и поэт тоже. Юра почти год работает в Нейтринной, почти год, как он расстался с Москвой, и почти год он пишет стихи.