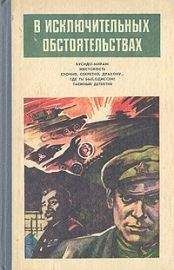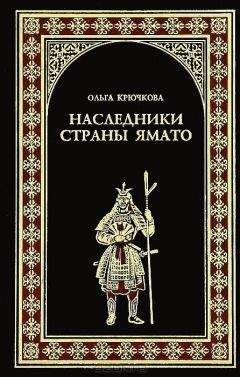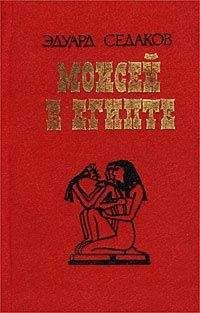Я скоро вылез на плоты.
А Венька еще долго плавал разными способами – и «по-собачьи», и «по-бабьи», и «на посаженках», далеко выбрасывая длинные, сильные руки.
Из воды он вылез синий, постукивая зубами, и лег на плоты, подставив все тело горячему солнцу и только голову закрыв рубашкой.
Я прополаскивал в быстро текущей воде свою линялую тельняшку.
– Вот ты говоришь, – снял с лица рубашку Венька. – Вот ты как будто удивляешься, что я не обозлился, когда Лазарь признался или похвастался, что хотел убить меня. И что я как будто разыгрываю из себя монаха. Но это ерунда, – перевернулся на живот Венька. – Зимой во время операции в Золотой Пади я был злой, наверно, как дьявол. Это ж я убил Покатилова. И я точно знаю, что убил его я. И не жалею нисколько. Это было как в драке, как в бою. Но вот теперь смотри. Я веду допрос. – И он сел. – Вот так я сижу, а вот так арестованный. Он один. За ним уже никого нет. А за мной закон, государство со всеми пушками, пулеметами, со всей властью. Чего же я буду сердиться на арестованного? Государство же не сердится. Ленин говорит…
Вдруг бревно резко качнулось под Венькой, и нас обдало холодными брызгами.
Это Васька Царицын прямо с крутого берега прыгнул на плоты.
– Читаешь лекцию? – засмеялся он, посмотрев на Веньку.
Венька покраснел, так и не досказав, о чем говорит Ленин.
Васька, здороваясь, протянул нам широкую, измазанную мазутом ладонь. И лицо и шея у него были измазаны мазутом.
– Иду с работы, – весело сообщил он и стал раздеваться, присев на чуть вздыбленное рулевое бревно. – А вы что, уже искупались?
– Искупались, – сказал я, недовольный приходом Васьки.
Мне хотелось еще о многом расспросить Веньку. Он был в том хорошем душевном расположении, когда его можно было расспросить обо всем. А мне всегда казалось, что он знает больше, чем говорит. Говорит он обычно редко и почти всегда как-то отрывисто, затрудненно, будто тут же додумывая и желая не столько собеседнику, сколько самому себе объяснить что-то сильно тревожащее его Душу.
Васька явно помешал нашему разговору. Но он, должно быть, не заметил этого. Раздевшись, лег на плоты с того края, где они ближе к берегу, и запустил обе руки в воду, добывая со дна серый илистый песок.
Натирая лицо и все тело этим песком, он без умолку что-то такое напевал себе под нос. Потом сказал:
– А я, ребята, сам вчера лекцию хорошую слушал. Оказывается, милиции-то не будет…
– Как это милиции не будет?
– Вот так! – торжествующе заявил Васька, уже весь как черт измазанный мокрым песком и илом. И даже волосы его слиплись и встали дыбом, как рога. – Оказывается, все это прекращается – и милиция, и уголовный розыск. И судить тоже никого не будут…
– Кто это тебе сказал?
– Как то есть кто? Лектор. Приехал, я не знаю откуда. Кажется, из Читы. Вчера у нас на электростанции читал лекцию. Потом будет, говорят, выступать в клубе Парижской коммуны…
– И что же он говорит?
– Да он много чего говорит. Но это верно, я сам своими ушами слышал, что уголовного розыска больше не будет. Все это отменяется. Вплоть до прокуратуры.
«Хорошенькое дело! – подумал я. – Мы завтра едем на операцию, а тут вон какие новости!»
– Брехня это все, – сказал Венька, опять развалившись на плотах и жмурясь от солнца. – Брехня, я тебе говорю…
– А вот и не брехня! – настаивал Васька, подпрыгивая на одной ноге на том осклизлом и вертящемся бревне, по которому ходил Венька. – Лектор приводит данные из книги Ленина. Я только забыл, какое название. У меня записано…
– А кто же, по-твоему, бандитов будет ловить? – спросил я Ваську. – Вы, что ли, с лектором их будете ловить?
– А бандитов вовсе не будет, – покачнулся Васька. И, не удержавшись на бревне, бултыхнулся в воду.
Из воды, отфыркиваясь, он закричал:
– Я вам это верно говорю, ребята! Можете кого угодно спросить, кто был на лекции. Я потом сам переспрашивал. Это верно, что все отменяется…
Мы лежали на плотах и смотрели на Ваську, изображавшего, как плывет дохлая свинья, как купается пугливая барыня, как идет на дно утопленник.
Васька был прирожденным артистом. Принявшись изображать в воде, кто как купается, он, должно быть, тотчас же забыл только что сообщенную новость.
Нас эта новость тоже не сильно взволновала. Мы поняли, что тут какое-то недоразумение. Васька чего-то не понял, недобрал в рассуждениях лектора. И мы сказали ему об этом, когда он вылез из воды.
– Нет, я все хорошо понял, – прыгал он опять на одной ноге, стараясь вытряхнуть воду из уха. – И домзаков тоже не будет. Лектор это прямо говорит…
– А когда не будет? – насмешливо спросил Венька, подымаясь с бревен. – Завтра, что ли?
– Не завтра, но при коммунизме, – сказал Васька.
Венька смыл с ног присохший ил и водоросли и стал одеваться с той обстоятельностью и аккуратностью, которые мне всегда нравились в нем.
Одевшись полностью, замотав портянки и натянув сапоги, он стал застегивать поясной ремень и сказал:
– Это правильно, я читал, при коммунизме никаких властей не будет. При коммунизме все будет зависеть от совести людей…
Я еще раз потрогал свою выстиранную и растянутую на бревнах тельняшку. Она уже просохла. Я тоже стал одеваться, поглядывая, как причесывается Венька. Наклонившись над водой, он обмакивал в воду расческу, чтобы получше примять высохшие после купания волосы.
– Значит, я правильно вам сказал, – обрадовался Васька, продолжая прыгать то на левой, то на правой ноге.
– В общем, правильно, – согласился Венька. – Но надо было только сказать, что это будет при коммунизме. И лектор, наверно, так говорил…
– Ну да, – подтвердил Васька. – Он все время и говорил о том, как мы будем жить при коммунизме, какие будут города, заводы. И вообще, как все будет, когда наступит коммунизм…
А что он наступит очень скоро, в этом, конечно, никто из нас не сомневался.
Ни нам, ни Ваське Царицыну, ни, может быть, даже заезжему этому лектору не дано было тогда вообразить, через какие еще неслыханные страдания должен будет пройти весь наш народ, раньше чем в историческом далеке забрезжат огни социализма.
Васька остался купаться, а мы с Венькой пошли по отлогому откосу в гору, чтобы пересечь маленький садик на берегу реки, прежде называвшийся Купеческим, а теперь – имени Борцов революции.
Много было уже переименовано в этом небольшом уездном городе – и учреждения, и улицы, и сады, – а люди все еще жили здесь в большинстве своем по-старому. Даже не то что по-старому, но с боязливой оглядкой, с выжидательной осторожностью, тревожимые то смутными слухами, то предчувствиями, то внезапными выстрелами в ночи.