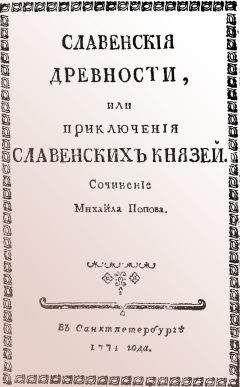Джимс спустился к реке. Много дней он прятался на ее берегах, разыскивая тело Туанетты. Он часто видел сенеков, но, передвигаясь только по воде, ни разу не попался им на глаза.
Добравшись до озера Онтарио, Джимс повернул на запад. Он ни на минуту не выпускал из рук свой узелок. По ночам он спал, придвинув его к лицу и вдыхая драгоценный запах вещей Туанетты. Время от времени он подносил к губам кусок красной ткани, которым она повязывала волосы. Со дня побега прошло несколько недель, и чем дальше, тем больше вялость охватывала его. Он утратил способность желать, все делал по инерции, иногда подолгу не выходил из очередного убежища. Тяга к уединению стала скорее привычкой, нежели осознанной нормой поведения, диктуемой необходимостью. Ничто не побуждало его вернуться в Заповедную Долину или на берега Ришелье, и чистая случайность привела его к тому месту на озере Шамплен, которое индейцы называли Тикондерога. Это произошло в конце лета 1756 года. Французы возводили Форт-Водрей и Форт-Карийон. Джимс, не задумываясь, присоединился к ним с горячностью человека, нашедшего наконец способ утолить жажду убивать. Он вступил в войско Монкальма30 и сменил лук и стрелы на мушкет и лопату.
Строительство фортов шло полным ходом, и Джимсу предстояло овладеть искусством рыть землю и возводить земляные валы. Работа, заботы военного времени, все более частые вести о победах французов приносили облегчение больной душе Джимса, но не пробуждали в нем радостного волнения. Он боролся с апатией, старался вновь разжечь в себе ненависть, настойчиво повторял, что англичане и дружественные им индейцы повинны в трагической гибели тех, кого он любил и любит. Но он не мог подвигнуть себя на мщение. Он хотел сражаться, хотел увидеть англичан и их союзников поверженными, но чувства его были столь же вялыми, сколь безжалостными. Как у всякого фаталиста, они горели ровным огнем, и ни триумф, ни поражение не заставили бы их воспарить к высотам радости или низвергнуться в глубины отчаяния. После того, что он перенес, смерть не трогала его, зрелище людской бойни не вызывало тошноты и отвращения, победа не приносила и тени той радости, которую он излил в песне, спетой при свете костров в Ченуфсио. Когда Освего, цитадель англичан, была превращена в груду угля и пепла и в каждой церкви Новой Франции в знак благодарения и радости пели Те Deum, Джимс не испытал особого волнения. Но когда в тот же день прибывший из Квебека ополченец произнес знакомое имя, сердце молодого человека забилось, словно его неожиданно пробудили от сна. С тех пор дружба жителя Нижнего Города, чью сестру звали Туанеттой, значила для него гораздо больше, чем победа при Освего и последовавшая за ней концентрация французских войск в Тикондероге.
Близких друзей у Джимса не было; никто не слышал его историю. Один из офицеров обнаружил, что он знает местность, и его назначили в разведку на озеро Георга. В канун рокового 1757 года рейнджеры Роджерса захватили Джимса в плен. В январе он бежал и в первых числах февраля возвратился в Форт-Карийон. Здесь он узнал, что Поль Таш был среди французских офицеров, павших при штурме Освего. Джимс ощутил острую жалость. Совсем недавно он вспоминал о Поле, о матери Туанетты и пытался представить себе, как будет рассказывать им о том, что произошло после резни в Тонтер-Манор.
Мы не располагаем сведениями о военной жизни Джимса с февраля по август 1757 года, когда он участвовал в захвате Форта Уильям Генри и Форт-Георга и был свидетелем резни, учиненной над английским гарнизоном неуправляемыми индейцами — союзниками французов. Должно быть, он пережил тогда своего рода шок: вскоре после кровавой бойни, когда опьяненные резней индейцы жарили на вертелах и варили в котелках мясо погибших англичан, он набрел на священника в черной сутане и узнал в нем отца Пьера Рубо, того самого иезуита, который в Ченуфсио обвенчал его и Туанетту. Отец Рубо даже в те страшные минуты делал записи, которым было суждено стать бесценной частью истории иезуитов, а также истории англо-французских отношений в Америке. Пожелтевшие от времени страницы, написанные главным образом при свете факелов, среди насилия и зверств, желающие могут прочесть в архивах иезуитов в Квебеке. Священник видел Джимса, но был так поглощен трудом, что не узнал его. Да и Джимс сильно изменился за минувшие шестнадцать месяцев. Он ушел, так и не назвав себя31.
После событий в Форте Уильям Генри и, несмотря на предшествовавшие им блистательные успехи французского оружия, Джимс стал ощущать признаки близкой катастрофы. Английские Колонии положили конец взаимным обидам и ссорам, и полтора миллиона поднялись против восьмидесятитысячного населения Новой Франции. Эти несметные силы поддерживали мощная английская армия и еще более мощный флот, направленные в Америку по настоянию Питта и Вольфа. В церквах служили торжественные молебны во славу побед Монкальма, но сам полководец знал, что Новая Франция стоит на пороге гибели. Однако никогда исход героической борьбы не представлялся ему более очевидным и неотвратимым, чем Джимсу. Один из них, воодушевляемый верой в Бога и образами матери и жены, продолжал борьбу, стремясь защитить нацию от смертельного удара. Другой упорно сражался плечом к плечу с рядовыми бойцами, но видел конец так же ясно, как его командир. В отличие от Монкальма никакая вера в Бога не могла пробудить в сердце Джимса надежду, если вокруг него был беспросветный мрак. На примере судеб жены, матери, отца, дяди Джимс видел и чувствовал надвигающуюся катастрофу более ясно и остро, чем тот, кто судил о ней по числу кораблей, пушек и солдат.
Когда захваченные в Форте Уильям Генри орудия срочно переправили в Тикондерогу, для Джимса, как и для Монкальма, — хоть и по-разному — открылась последняя глава в книге испытаний. Джимсу нечего было желать, не о чем молиться. Победа Канады — если бы произошло чудо и французы окончательно разгромили противника — утешила бы его не больше, чем огорчило бы ее поражение. Бывало, француз брал в Джимсе верх над англичанином. И тогда мать, Хепсиба Адамс и все, что они олицетворяли собой, обращали на него вопрошающие взгляды, словно подозревая в предательстве, но не осуждая за измену. В такие часы Джимсу являлась тень Туанетты; она протягивала ему руку, и он знал, что сражается за нее, за дом, который был бы их домом, за страну, которую она превратила бы для него в рай. Чем больше крепла уверенность Джимса в неизбежности конца, тем ближе к нему становилась Туанетта, и неведомый прежде покой постепенно нисходил на него. Он черпал утешение в сознании неотвратимости события, которое непосредственно касалось его и Туанетты, и терпеливо ждал его. Так прошел еще год.