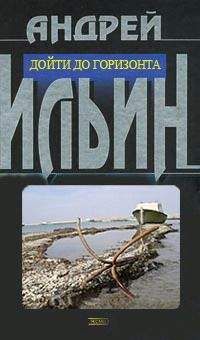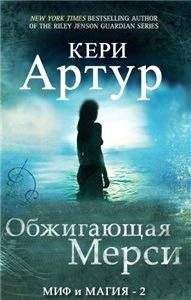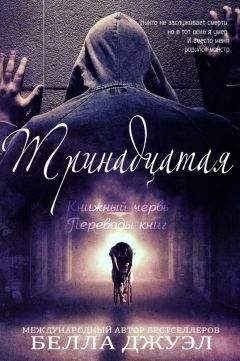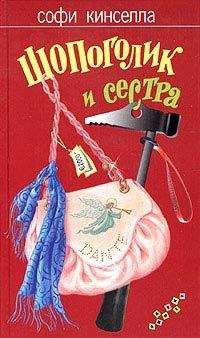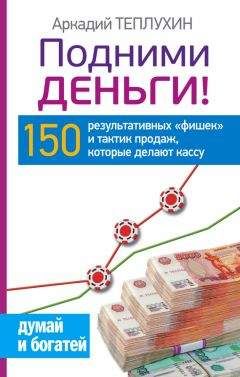— Присаживайтесь к нам. Угощайтесь! — и широким жестом хлебосольного хозяина указал на стол.
Рабочие с жалостью взглянули на нас, на наше угощение и приняли приглашение.
В минуту они завалили стол продуктами. Первым мы съели хлеб. Обыкновенные серые буханки поглощали с большим удовольствием, чем первоклассное пирожное. «Эклеры» и «Наполеоны» — десерт, баловство. Хлеб — еда! Первым заходом мы умяли по полбуханки, без всего — без масла, без сахара, соли, просто хлеб. Потом мы заглатывали все подряд, мешая сладкое и горькое, соленое и кислое. Глаза шли впереди рук. Не успевал я взять кусок дыни, а взгляд уже перескакивал на вскрытые рыбные консервы. Это было форменное обжорство. За сутки гостеваний у пастухов и на релейной станции мы разъели ссохшиеся желудки. Организм торопливо набирал утраченный жировой запас. Наша жадность была вызвана не издержками воспитания — физиологической необходимостью. Мы жадничали из чувства самосохранения. Наши желудки помнили недавний голод и теперь, не надеясь на разумность своих хозяев, старались запастись калориями впрок. Это типично для людей, выдержавших длительный вынужденный пост.
Спустя час рабочие в дальнем конце вагона стучали костяшками домино, у них шел десятый или пятнадцатый кон. А мы все еще сидели за столом, ворошили бумажки, двигали банки, отыскивали не замеченные раньше продукты. Мы давно насытились, но не могли себя заставить добровольно прекратить пищевую вакханалию. Наши помутневшие глазки отыскивали в груде мусора все новые годные к употреблению кусочки, крошки, ломтики. Мы съедали их без желания, почти через силу, пропихивая то, что застревало в горле, хлебным мякишем.
Мы не могли позволить выбросить остатки продуктов на помойку. Во время плавания мы раз и навсегда пересмотрели отношение к еде. Мои знакомые и сейчас удивляются, что я чуть не ложкой, давясь, пропихиваю в пищевод кусок недоеденной столовской котлеты. Я не могу его отнести в посудомойку. Я помню болтанку из морской воды и вареную плесень от «Геркулеса». К старому, легкому отношению к еде возврата нет!
Салифанов приподнял кусок газетки и увидел наши, с которых все и началось, банки тушенки и сгущенки. Он тяжело глянул на меня и взял консервный нож.
«Он вскроет банку, и придется есть! — ужаснулся я. — Некуда уже!»
Едой заполнен желудок, пищевод, гортань, кажется, частично даже легкие. Я наполнен продуктами под завязку!
Салифанов вздохнул, словно сожалея о том, что делает, ткнул банку острием ножа. Я обреченно потянулся к ложке.
Мы съели сгущенку. В кильватер ей отправили тушенку и три своих сухаря. Первый раз в жизни я наелся до боли. Не до тошноты, не до чувства тяжести в желудке — до боли! Мы сидели, боясь шевелиться и глубоко дышать. Я ощущал себя заполненной под самый верх кастрюлей, чуть наклони — выплеснется через край. Переждав боль, мы, боясь треснуть от неудачного движения по швам, пыхтя и отдуваясь, переваливаясь с боку на бок, поддерживая руками выпирающие животики, выползли на воздух. Сели в тень под вагон. Пахло раскаленным на солнце металлом, мазутом и пустыней. И еще пахло морем. Ветер, перескакивая раскаленные щебенистые просторы Усть-Урта, доносил до нас соленый, столь много говорящий запах Арала.
— Море! — сказал я, вдохнув ноздрями воздух. Салифанов тоже потянул носом:
— Он самый, Арал!
Замолчали каждый о своем.
Память зацепилась, потянула ниточку воспоминаний, стала виток за витком распутывать клубок прошедших событий. Я вспоминал первую ночную вахту — тишину, серп луны, висящий на топе мачты, уютный свет керосиновых ламп, протяжные вздохи волн. А ведь это прошлое, раз я его вспоминаю…
Возле станционного домика ветер крутит обруч небольшого смерча. Он втягивает внутрь воронки мелкий песок, сухие ветки, кусты перекати-поля, поднимает их и, забавляясь, вертит в высоте, сталкивая, перемешивая пустынный мусор. Я сижу посреди плато Усть-Урт на безымянном разъезде, рядом с которым шуршит смерч. Я ничему не удивляюсь, ничего не желаю, ничего не боюсь.
Мои ступни упираются в раскаленный металл рельса, по которому я очень скоро приеду домой.
Странно, меня почти не трогает эта мысль. Я отвык от дома, Челябинска, города, суеты. Я сижу в центре пустыни Усть-Урт, и мне просто хорошо. Я вспоминаю море, вахты, острова, встречи и не спешу домой…
Троллейбус был полон.
— Следующая остановка «Школа», — объявлял водитель и долго хрустел микрофоном о панель.
Я стоял, притиснутый к поручням, возле окна. На улице осень и дождь. Капли барабанят в металлическую крышку, в стекло. Кажется, они летят прямо в лицо, в открытые глаза. Но стекло останавливает их полет, капли разбиваются вдребезги, расплываются прозрачными кляксами и сползают вниз. Пассажиры напирают со всех сторон, вдавливаясь в мое тело своими коленями, локтями, сумками, зонтиками. Троллейбус заносит на поворотах, и тогда вся масса пассажиров задней площадки наваливается на меня, распластывая по окну. В этот момент я ничем не отличаюсь от капель, бьющих в стекло с другой стороны. Я тоже готовлюсь расплющиться и стечь вниз. На остановках, нарушая все законы физики, утверждающие, что металл не обладает свойствами резины, впихиваются новые пассажиры. Кто-то удобно размещается на моей ноге. Я выдергиваю носок ботинка из-под каблука и уже не могу отыскать свободную площадь пола, на которой умещал свою подошву.
«Лучше никуда не ездить», — мысленно изрекаю я не самую оригинальную мысль.
А еще на улице осень. На душе тоскливо, словно и ее мнут, давят плечами и коленями. Сосед справа, бесцеремонно распихивая пассажиров, начинает протискиваться к выходу. Толпа шевелится, возмущается, расступается.
На секунду образуется узкий тоннель, в который я, используя мгновение, пропихиваю свое тело. Люди смыкаются сзади, выдавливают меня к выходу. Мое тело несет, словно в бурном потоке. Меня толкают, пихают в бока, словно я не живой человек, а какой-нибудь чемодан.
Пытаясь остановить хаотическое движение (мне еще ехать целую остановку), я ищу зацепку. Наконец, в самый последний момент, перед провалом открытой двери, я нащупываю поручень, смыкаю на нем свои пальцы. Поручень рвется из рук.
«Прямо как румпель руля…» — думаю я и, вдруг отстранясь от окружающего, ясно вспоминаю, как вижу…Мертвая зыбь гонит водяные валы с кормы. В ладони, как испуганный зверек, бьется румпель. Он пытается выскользнуть из-под моей навязчивой опеки, он устал от двух противоборствующих сил, выворачивающих его в разные стороны — моих рук и набегающего потока воды. Стрелка компаса «плавает» по шкале. Где север — поди узнай.