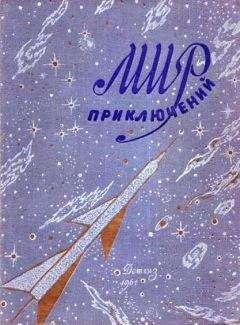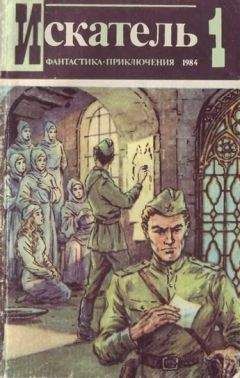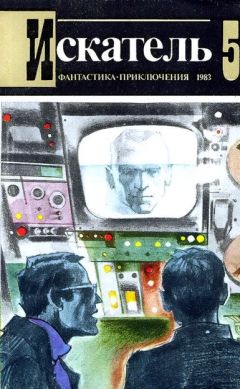Мы тянулись за капитаном. Залег Ходжиакбар; его присыпанная снегом телогрейка сливалась с фоном, и тело его распласталось, голову он держал как-то странно, почти положив ее на приклад. Серые шинели снова поднялись. Я выбрал цель, но опоздал — словно невидимый щелчок свалил моего противника. Это поймал мгновение и ударил капитан. «Вот оно, — подумал я, — теперь или никогда…» Страх перешел в волнение, и волнение это, возбуждение делали тело упругим, как пружина, податливым.
Я пополз вперед. Догнал капитана, опередил его. Выстрелы наших раздавались за моей спиной. А я молчал. Немцы укрывались за кочками и заснеженной скирдой. Неожиданно близко от меня воздух вздрогнул от автоматной очереди. Показался ствол немецкого автомата. Очередь иссякла — он пропал. И снова вылезло черное дуло из-за бугорка. Царапая руки, я быстро прополз несколько метров и бросил гранату. Немец успел открыть огонь но левому крылу нашей группы. Грохот близкого разрыва… Автомат замолк.
И в эту минуту донеслось пока еще далекое, недружное, крепнущее «ура». К деревне подоспели главные силы отряда. Немцы, «наши» немцы, стали отходить. Потом я узнал, что именно в этот момент срезало двоих из группы: отходя, немцы умело отстреливались. Капитан окликнул меня, указал рукой на скирду:
— Видишь?
Я кивнул. Подполз к нему.
— Нужно выйти к скирде, понял? Пойдешь со мной.
Мы побежали, согнувшись, и очереди стали дырявить снег в стороне от нас. Свинцовая струя ударила впереди, рядом, потом еще, но не задела ни его, ни меня. Мы прошли опасный участок. Нас укрыл берег над замерзшим прудом, потом — балка с черным ручьем. Я чувствовал, что устал, но бежал, и капитан потом признался, что и он рад был бы автоматной очереди, чтобы броситься на снег и отдохнуть. Нас не заметили, и нужно было использовать это, не теряя ни мгновения.
…Мы вышли к скирде как раз в тот момент, когда к ней отступило немецкое прикрытие: семеро с автоматами. Мы открыли фланговый огонь, и они очистили дорогу. Поднялся Ходжиак-бар. Скориков быстро шел, держа винтовку как в штыковой атаке, и шаги его казались непомерно большими. За ним, пригибаясь и останавливаясь, выпуская с колена пулю за пулей, приближался к скирде Станислав Мешко Тусклые огоньки вспыхивали у стен домов, из-за углов раздавался треск очередей, но нам везло. По дороге отходили немцы. Повалил снег, такой, что все запрыгало перед глазами. Скориков подошел к капитану, и я услышал, как он докладывал о наших потерях.
— Выходим к школе — сказал капитан.
С другой стороны деревни показались наши. Из-за околицы ближайшего к нам дома по ним бил пулемет — неровно, с перерывами, точно захлебывался от ярости.
Мешко и Скориков уже крались к нему… Я потерял их из виду. Стало почти тихо. Одиночные выстрелы, удаляющиеся звуки автоматных очередей — озлобленное, неровное тявканье.
Я едва успел перевести дух. Нас было теперь восемь человек.
Мы двинулись на окраину деревни, пробирались задворками, огородами, потому что и деревенская улица, и дома заняты были еще немцами, и они, как мне казалось, не собирались оставлять их.
Шагах в трехстах от нас горел дом.
— Не отставать! — крикнул капитан. — Не останавливаться!
Из черных провалов окон вырывались грязно-красные языки огня и лизали сруб. Перепуганный деревенский мальчишка лет восьми, увидев нас, несказанно обрадовался Теперь у нас был провожатый.
Я помогал ему, тащил за руку по снежной целине, и вот мы увидели двухэтажное здание на взгорке, недавно, наверное, построенное колхозниками. Подле суетились фигурки в шинелях мышиного цвета Пламя враз охватило стену школы. Немцы убегали, у одного из них в руках плоская темная канистра… И опять звучало в голове это неверное, как старое обещание, слово «если».
Капитан ворвался в школу, сбив прикладом замок. Я кинулся за ним. На лестнице — дым.
— Выходи! — Голос капитана звучал где-то на втором этаже.
Плечом я выломал дверь класса. Неподвижные лица, темные платки женщин, плачущие дети, возгласы радости, чьи-то причитания — все это едва успело войти в сознание. Плечом, сапогами, кулаками я бил в заколоченные двери, пока задымленный коридор и медленные, чадящие языки пламени и лица не поплыли вдруг перед глазами. Я держался за стену и сползал по ней. Странная, непреодолимая сила тянула меня вниз, ноги подогнулись.
— Ну как? Жив? — Лицо капитана возникло и отдалилось, и над нами закачались белесые облака.
Щеку уколола соломина. Я лежал на телеге, и она вместе со мной плыла под слепым зимним небом. Капитан казался таким усталым, что я вслух сказал об этом.
— Лежи, лежи!.. О капитане не заботься… — Он сказал это вполголоса, для себя, но я услышал.
Позже я узнал, что у нас девять человек убитых, пятнадцать раненых, точнее, четырнадцать — меня посчитали сначала за раненого.
— Жив я и не ранен даже! — ответил я капитану и подумал, что слишком быстро наглотался дыма и вообще мог не выдержать: я ведь не заяц, чтобы без устали бегать по снегу.
— Признаться, я не ожидал, что ты таким окажешься, — опять вполголоса сказал он, — гранату ты им подбросил вовремя, только горячился зря, могли шлепнуть!
Мы взяли трофеи, но деревню так и не отбили; отход прикрывала группа, вооруженная трофейными автоматами — оружие что надо, хоть траву коси…
Опять повалил снег; густой, влажный, тяжелый, он засыпал наши следы. Из-за белой завесы вынырнул Ходжиакбар. Он рассказал, как помогал перевязывать раненых и как в школе, которую мы сегодня взяли, нашли мальчонку лет четырнадцати и уже приняли в отряд. Его немцы заперли отдельно, после допроса, и у него волосы к обледенелой стене примерзли.
— Тебе холодно? — спросил я Ходжиакбара.
— Нет, — односложно ответил он. — В Узбекистане зимой тоже морозы бывают, а бедняку всегда холоднее, и ему надо привыкнуть.
— Бедняку? — Слово резануло слух.
— Ну, когда маленьким был, кто же я был? Конечно, бедняк. Мать и отец на бая спину гнули, а потом…
— Что потом? Расскажи.
И Ходжиакбар начал рассказ.
Он помнит быстрый арык. Землю, которой вечно не хватало воды. Пески, которые окружали кишлак, казались морем; светлое днем, вечером оно было красным от пылающего солнца. Помнит своего отца. Худощавый человек сидит на берегу арыка, в его руке горсть земли, он смотрит в ту сторону, откуда бежит вода, ее будто бы становится меньше день ото дня.
Всплывают в памяти рассказы о том, что воды не хватит и для питья, как было уже не однажды в старые знойные годы. Его мать сидит над ковром. Рядом — маленький брат Ходжиакбара. Руки матери зелены от тени чинары; они так проворно летают над ковром, что Ходжиакбар не может уловить движения пальцев, но видит, как постепенно расцветает ковер. Ходжиакбар выходит на улицу, следит за мельканием зеленых зайчиков на стенах домов, за полетом птиц, за свиристящими зверьками у околицы…