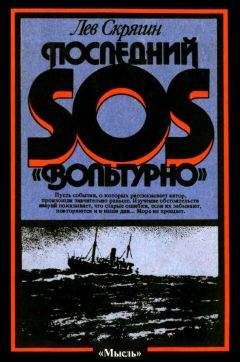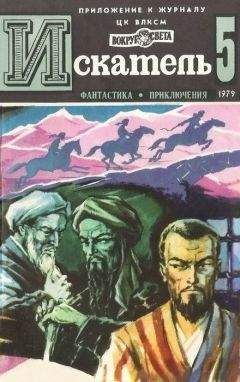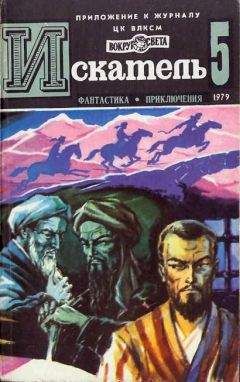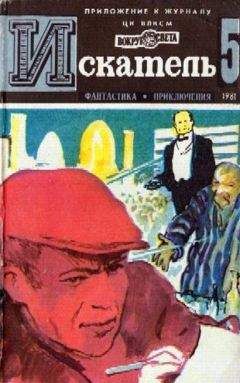Вот уже десять лет она жила одна, сын вырос и поступил в училище, а, один раз ошибившись в выборе, она долго не искала новой судьбы.
Прошел год. И как-то случайно, встретив Сухова в порту, Людмила Сергеевна не выдержала, кинулась ему навстречу, увидела слезы в его глазах, и, хотя это было столь необычно, именно тогда она поняла, как он одинок. Сухова надо было заставить поверить в себя, ему нужен был человек, который бы тоже нуждался в его поддержке. И она чувствовала, как с каждой новой встречей он все больше оживает, возвращается к жизни. А перед отходом в этот рейс Сухов ходил в инспекцию. Рассказывал он ей об этом оживленно, говорил, что требуется совсем немногое, нужны курсы, что в конторе хотели в этот рейс его направить капитаном, но не было подходящего судна. Он решил, что лучше всего ему теперь плавать не на малых сейнерах, а устроиться на базу, тем более у него пошаливало сердце, да и они бы смогли быть все время вместе.
На берегу у Сухова была своя семья, свой дом, и, хотя Людмила Сергеевна знала, что дом тот давно стал чужим для Сухова, ей это было неприятно: различные слухи, осуждения, разговоры в конторе, встречи тайком, хотя и таится уже было ни к чему. Сухов сам рассказал жене обо всем. Опрометчиво ли было это с его стороны — судить трудно, в этом был Сухов. Он не умел выкручиваться, лгать, и в то же время жила в нем какая-то неуверенность, которую Людмила Сергеевна пыталась вытравить из него. Висели над ним прежние неудачи, груз которых надо было скинуть во имя его лее блага, чтобы он мог подняться, встать во весь рост, жить раскованно. Теперь, когда, казалось, все прояснилось, он исчез вдруг, и она не в силах ничего сделать, чтобы спасти его!
Людмила Сергеевна выбежала из рубки, кинулась к радистам, те пытались успокоить ее, сказали, что все прекратили лов, что Аркадий Семенович перешел на «Наяду», что «Наяда» идет к «Диомеду». Она побежала вниз, чтобы упросить Шестинского взять и ее на «Наяду», но было уже поздно, сейнер отходил от борта.
На базе подавали в цех рыбу, принятую от «Наяды». Матросы возили снег, засыпали его в бункера, где он тотчас смешивался с темной водой и серыми слоями рыбы. Снег из льдогенераторов был первозданно чистый, искрящийся, матросы лепили снежки и швыряли друг в друга, шла обычная работа, жизнь продолжалась. Но сейчас все это показалось Людмиле Сергеевне кощунством, бездушием, ей хотелось накричать на пышущих здоровьем молодых матросов, ровесников ее сына, она отвернулась, вцепилась в фальшборт и наклонилась к воде. Там, внизу над водой, стелилась дымка, в прогалах этой дымки виднелась поверхность моря, не голубая и искрящаяся, как обычно бывает в этих широтах, а темная. Такая вода встречается в лесных озерах, темно-коричневая, с желтыми лилиями, вязкая вода.
— Давай, шеф, покажи себя, — сказал Ефимчуку боцман, — покажи свой класс, начальство большое к нам идет, так что учти, чтобы были твои люля-кебабы! Усек?
Боцман, здоровенный детина, обожавший камбуз и всегда требующий добавки, был, пожалуй, единственным на судне, кто нашел общий язык с поваром. Заговаривал ему зубы, помогал чем мог и поэтому стал своим человеком в провизионке.
Ефимчук рубил мясо. Равномерно опускался топор, точно находя промежутки между костями.
— Какое еще начальство? — спросил он равнодушно.
— Сам Шестинский. Говорят, расследовать будет — почему, что, отчего. Да и командовать поиском.
На мгновение топор застыл в руках Ефимчука и жмакнул по куску говядины в кость.
— Ну, я пошел, — сказал боцман. — Надо «ледянку» принять.
«Ледянкой» называли легкую алюминиевую шлюпку — это Ефимчук знал. Уже на переходе он успел многое запомнить: и как спускать шлюпку, и как пользоваться плотом. Когда были учебные тревоги, он путался в мудреных названиях, но никто над ним не подсмеивался, а, напротив, охотно все объясняли. Ему нравился флотский порядок, точность во всем, и он клял себя, что раньше не устроился на рыбацкий траулер, много раньше, а проторчал столько лет в приморском санатории, хоть и отдаленном от больших городов, тихом, но зато с калейдоскопом лиц, со сменой заездов, с мельтешением людей, вырвавшихся отдохнуть. Им не было никакого дела до того, кто и как готовит в парах огромной кухни, им был виден только результат, и вкусы у них были привередливые. Здесь же никаких жалоб — все довольны.
Слишком много людей за эти годы побывало в том санатории- в этом и была главная ошибка. И то, что он со страхом ждал, произошло. Это было явление оттуда, ожившее привидение. В парке санатория, среди весенных, блестящих от дождя кустов, шел Паскин: белые седые волосы, холеное лицо, острый взгляд насмешливых черных глаз и оттопыренные губы. Ефимчук узнал его сразу — глубокий шрам пересекал высокий лоб Паскина, и больших доказательств не требовалось. Ефимчук тотчас свернул в боковую аллею, а на следующий день внезапно занемог, и врач санатория, ничего не обнаружив, решил, что все дело в нервах. «Больной» провалялся дома ровно столько времени, сколько отдыхал в санатории человек с белой гривой волос и шрамом на лбу. После отъезда Паскина Ефимчук задумал уволиться. Свое выздоровление он отметил походом в ресторан, что было не совсем обычно для уклада его жизни, основным правилом которой было стараться меньше вылезать из дома и — не заводить никаких друзей-приятелей, любящих лезть в душу с расспросами. Ресторан был в другом городке, в получасе езды от санатория, там Ефимчука не знали, и, хотя он пришел рано, все равно сел за самый дальний столик, с тем расчетом, чтобы никто не польстился на свободное место рядом с ним. Но получилось так, что в ресторане уже через час стало шумно и многолюдно, за столиками мелькали загорелые руки, лица, синие куртки с шевронами. Оркестр исполнял на заказ одну и ту же песню о моряке, который вразвалочку сошел на берег. Рядом за столом сидел высокий плотный человек с водянистыми, но веселыми глазами, к которому все относились почтительно, а в спорах обращались за советом и окончательным решением только к нему, со всех сторон то и дело слышалось: «Петр Петрович, а как вы считаете?»
Часам к восьми моряки сдвинули столы, появились девушки, все в зале завертелось, задергалось в современном танце. Петр Петрович, оказавшийся капитаном рыболовного сейнера, из-за стола не поднялся и в тот момент, когда они остались сидеть одни, а все остальные танцевали, кивнул Ефимчуку, улыбнулся, широко открывая ровные зубы, сказал:
— Скучаем, отстаем от молодежи.
Ефимчук согласился с ним: мол, да, не те годы, хотя был этот капитан в полтора раза моложе. Они разговорились, и впервые за все последние годы Ефимчук не стал отмалчиваться, поддержал разговор. Капитан жил заботами промысла, говорил, как ловили скумбрию в Атлантике, рассказывал о сдаче рыбы в каком-то африканском порту. Ефимчук слушал заинтересованно и в ответ на вопрос, как он живет, объяснил, что остался один без семьи, годы упущены, пристроился поваром в санатории, жизнь скучная, все надоело, люди приезжают на короткое время, бесятся, но ему это все ни к чему, противно, так вот уходит время.